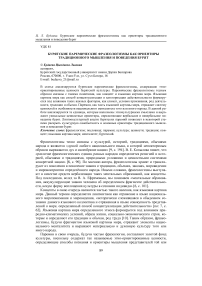Бурятские паремические фразеологизмы как ориентиры традиционного мышления и поведения бурят
Автор: Будаева Цындыма Львовна
Рубрика: Проблемы изучения текста в разноструктурных языках
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются бурятские паремические фразеологизмы, содержащие этноориентированные ценности бурятской культуры. Паремические фразеологизмы тесным образом связаны с такими понятиями, как концепт и языковая картина мира. Языковая картина мира как способ концептуализации и категоризации действительности формируется под влиянием таких важных факторов, как климат, условия проживания, род деятельности, традиции и обычаи. Паремии, как часть языковой картины мира, отражают систему ценностей и особенности национального менталитета того или иного народа. В данной работе анализируются те единицы, которые наполнены этнокультурными смыслами и выражают уникальные ценностные ориентиры, определяющие вербальное и невербальное поведение бурят. Лингвокультурный анализ бурятских паремий позволяет в некоторой степени раскрыть культурную самобытность и основные ориентиры традиционного мышления и поведения бурят.
Фразеологизм, пословица, паремия, культура, ценности, традиции, концепт, языковая картина мира, менталитет, бурятский
Короткий адрес: https://sciup.org/148316565
IDR: 148316565 | УДК: 81
Текст научной статьи Бурятские паремические фразеологизмы как ориентиры традиционного мышления и поведения бурят
Фразеологизмы тесно связаны с культурой, историей, традициями, обычаями народа и являются «душой любого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации» [9, с. 194]. В. Е. Копылова пишет, что «различие фразеологических единиц разных народов определяется религией и историей, обычаями и традициями, природными условиями и ценностными системами конкретной нации» [8, с. 90]. По мнению автора, фразеологизмы хранят и транслируют из поколения в поколение знания о традициях, обычаях, законах, мировидении и мировосприятии определённого народа. Иными словами, фразеологизмы выступают в качестве средств вербализации таких ментальных образований, как концепты. Под последними, вслед за В. А. Ефремовым, мы понимаем «ментальные образования, аккумулирующие знания человека об определенном фрагменте действительности, некую форму воплощения культуры в сознании индивида» [6, с. 101].
Концепты в свою очередь являются частью такого явления, как языковая картина мира. Данный термин определяется лингвистами как отражение в языке национального миропонимания и мировидения, «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности» [по: 7, c. 62]. Языковая картина мира определенного этноса формируется под влиянием природно-климатических условий, образа жизни, социально-экономического строя, которые и определяют его традиции и обычаи, род труда [10]. Таким образом, фразеологизмы, будучи фрагментом языковой картины мира, отражают элементы национального менталитета и выражают материальную и духовную культуру того или иного народа.
Паремии в свою очередь, будучи частью фразеологии, составляют золотой фонд культуры, поскольку содержат так называемые этно-ориентированные ценности, определяющие способы познания и ориентиры мышления представителей той или иной культуры [3]. Паремические фразеологизмы, являясь частью языковой картины мира, насыщены культурными смыслами и выступают в качестве хранилища культурных ценностей. В этом смысле тщательный анализ паремиологического фонда языка позволяет нам определить культурную самобытность и особенности менталитета этнокультурной общности.
В рамках данной статьи мы проанализируем бурятские паремические единицы. Опыт нашего исследования бурятских пословиц и поговорок свидетельствует о том, что в бурятском языке представлено большое количество паремий, выражающих наказ о глубоком почтении и уважении к старшему поколению: « Бууралhаа үгэ ду-ула, бусалhанhаа ама хүрэ » (досл. Седого человека слушайся, кипяченой еды пробуй ); « Yбгэд хγгшэдые наада бγ бари, γтэлхэ саг өөртэшни ерэхэ » (досл. Не смейся над старыми: и сам будешь стар ); « Хүгшэн шоно мэхэдэ орохогүй; хүгшэн шоные hуу-дхахагүйш » (досл. Старого волка не обманешь, старого волка не подкузьмишь ); « Үхэр мал — үбhэ тэжээлээр, үхи хүбүүд — үбгэдэй hургаалаар » (досл. Скот живёт благодаря кормам, дети — нравоучениям стариков ); « Yбhэн ургабал юртэмсын шэмэг, үбгэд сугларбал турын шэмэг » (досл. Вырастет трава — украшение земли, соберутся старики — украшение свадьбы ); « Хүгшэн нохой хии хусахагүй » (досл. Старая собака зря не лает ).
Дидактическая ценность этих паремий заключается в следующем: к старым, умудренным опытом людям нужно относиться с большим почтением и уважением, так как в их жизненной практике, накопленных знаниях есть много полезного и нужного для молодого поколения [1]. Т. Ц. Дугарова в свою очередь связывает традицию почтения старшего поколения с таким важным явлением в бурятской культуре, как ёho заншал — своеобразный этикет, регулирующий бурятскую жизнь и выражающийся в уважительном отношении людей друг другу, доброжелательности, духовном единстве с природой, почитании старших, сохранении родного очага [5]. По словам автора, институт почитания старших относится к числу этнокультурных архетипов бурят, которые «возникли в человеческом обществе в процессе построения идеалов и реализации социального контроля» [4, с. 110].
Отметим, что эта традиция частично сохранилась и по сей день, но ассимилировавшиеся буряты, живущие в городах, практически не следуют ей. Для бурят традиционной формой обращения является уважительное обращение на «Вы», а также использование особой терминологии (напр. « Эжы », « Абгай », « Ахай » и т.д.). Несоблюдение данного правила, обращение к старшим на « ты » считается проявлением неуважения и невоспитанности.
Следующая особенность бурятских паремий связана с особым восприятием времени в бурятской культуре, которое прослеживается в следующих пословицах: « На-адан дээрэ нахилзаха хэрэгтэй, хурим дээрэ хотолзохо хэрэгтэй » (досл. Во время игр изгибаться надо, на свадьбе — танцевать (вышагивать ); « Даарахада даха хэрэгтэй, дайлалдахада хуяг хэрэгтэй » (досл. Когда мерзнешь, нужен тулуп, когда воюешь — щит ); « Уйлахаяа hанабал hохоршье уйлаха, ухэл ерэбэл үгытэй баянш үхэхэ » (досл. Захочется плакать, и слепой заплачет, смерть придет, и бедный, и богатый умрут ); « Сагайнгаа ерээ haa, сахалишье губшуурта ородог » (досл. Свое время придет, и чайка в сеть попадет ); « Cагайнгаа ерэхэдэ, саhаншье хайладаг » (досл. Свое время придет, и снег стает ); « Yтэлhэн хойноо сэбэрээ бү дурда, үгырhэн хойноо баяна бү дурда » (досл. Постаревши, не вспоминай свою красоту, обедневши, не вспоминай свое богатство ).
Из примеров мы видим, что в традиционной бурятской культуре время представляется как цикличное явление, нечто нематериальное, неосязаемое и абстрактное, обращенное к категориям более высокого порядка. Цикличность времени выражает- ся в бурятском языке с помощью таких выражений, как сагай эрьесэ — «круговорот времени», саг духэриг — «круг времени», сагай хурдэ — «колесо / барабан времени» (хурдэ — вертящийся молитвенный барабан), дурбэн саг — «четыре времени» (времена года), саг тооно — «время тооно» (округлое отверстие дымохода в юрте, по которому измерялось время). По словам Т. Ц. Дугаровой, в сознании бурят круговое циклическое время отражает «циклы времен года, циклы рождения, жизни и ухода умерших в небо — затем возвращение к живущим членам рода через очередного новорожденного [5, с. 237]. В этой связи в традиционном бурятском сознании концепт «время» характеризуется такими чертами, как неизбежность, необратимость и безвозвратность, и содержит следующие ценностные ориентиры: «ценить время», «не торопить события», «не идти против силы времени», «не жалеть о прошлом».
Еще одна уникальная черта бурятских пословиц и поговорок отражается в «особом представлении о слове, которое регулировало поведение людей в общественной жизни» [4, с. 80]. Это прослеживается в следующих пословицах: « Худал үгэ зондо багтахагүй » (досл. Ложное слово не живет долго среди людей ); « Оньhон үгэ оносо-гой, олоной үгэ тудасатай » (досл. Пословицы и поговорки правдивы, слова народов точны ); « Хүнжэлэйнгөө хирээр хүлөө жии, хүнэйнгээ хирээр үгэ хэлэ » (досл. Протяните ноги, насколько позволяет одеяло, взвесьте свои слова в соответствии с тем, с кем вы разговариваете ); « Yнэн үгэ шара тоhон, үнэншэ хүн эрдэни зэндэмэни » (досл. Искреннее слово подобно топлённому маслу, искренний человек подобен сокровищу ); «Хуурай модон жэмэсгуй, xооhон угэ туhагYй » (досл. Бесплодно дерево сухое, нет пользы в пустословии ); « Олон үгэ хэлэжэ, сэсэн болохогүй, олбо жэрхэ агнажа, баян болохогүй » (досл. Говоря много слов, умнее не станешь, охотясь на мелкую дичь, богаче не станешь ).
Судя по дидактической составляющей и прескриптивному смыслу представленных паремий, традиционное коммуникативное поведение бурят характеризуется ценностным отношением к слову, а также сдержанным речевым поведением, что подтверждает тезис Т. Ц. Дугаровой о высококонтекстности бурятской культуры, которая проявляется в преобладании невербального поведения над вербальным, сдержанности, частом наступлении молчания в процессе общения [Там же]. На этот счет П. П. Дашинимаева пишет, что молчание — это не просто не-говорение, а переход к более выразительному семиотическому коду. Иначе говоря, молчание у бурят в процессе коммуникации несёт высокозначимую информацию и выполняет разного рода функции — протест, несогласие, самозащита, уход в себя, а также забота, поддержка, сопереживание [2].
Таким образом, лингвокультурный анализ бурятских паремических фразеологизмов позволил нам раскрыть в некоторой степени особенности традиционного мышления и поведения бурятского народа и выявить основные ценностные ориентиры бурятской культуры, которые заключаются в особом уважении и почтении старшего поколения, восприятии категории времени как циклического и необратимого явления, а также в ценностном отношении к слову, сдержанности поведения. В этом смысле бурятские паремии, будучи частью языковой картины мира бурят, содержат этнокультурные ценности, выработанные бурятским этносом еще с давних времен, что дает нам основание утверждать, что они служат определенными ориентирами вербального и невербального поведения бурятского народа.
Список литературы Бурятские паремические фразеологизмы как ориентиры традиционного мышления и поведения бурят
- Адамова С. М. Пословицы и поговорки, отражающие межличностные отношения в языках различных культур: лакском и английском: автореф. дис. канд. фил. наук. Дагестанский гос. пед. ун-т. Махачкала, 2015. 168 с.
- Дашинимаева П. П. Концепт Молчания: дизъюнктивный синтез в смыслопонимании // «Восток-Запад»: аксиолингвистические концепты окружающей среды (герменевтический аспект): материалы российско-польского научно-практического семинара. Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2009. С. 12-17.
- Дашинимаева П. П., Жанаев А. Т. Синтез теории и практики перевода. Пословицы в бурятском, русском и английском языках // Уч.-мет. пос. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2014. 73 с.
- Дугарова Т. Ц. Глобальные вызовы: Этническое самосознание бурят. М.: Прометей, МПГУ, 2010. 160 с.
- Дугарова Т. Ц. Особенности этнического самосознания бурят // Развитие личности. 2010. № 1. С. 225-238.
- Ефремов В. А. Теория концепта и концептуальное пространство // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 104.
- Каналаш О. П. Языковая и национальная картины мира как компонент лингвистического исследования // Lingua mobilis. 2011. № 1 (27). С. 60-64.
- Копылова В. Е. Фразеология русского языка как отражение языковой картины мира // Лингвокультурология. 2010. № 4. С. 89-93.
- Улазаева Г. В. Фразеологические единицы как фрагмент языковой картины мира (из практики преподавания русского языка как иностранного) // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2009. № 8. С. 193-196.
- Ene, D. The Correlation between Language and Cultural Identity in Phraseological Units. 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/ Buletin222/ene_daniela.pdf (дата обращения: 17.11.2018).