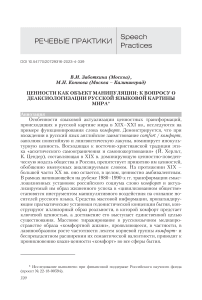Ценности как объект манипуляции: к вопросу о деаксиологизации русской языковой картины мира
Автор: Заботкина В.И., Коннова М.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Особенности языковой актуализации ценностных трансформаций, происходящих в русской картине мира в XIX-XXI вв., исследуются на примере функционирования слова комфорт. Демонстрируется, что при вхождении в русский язык английское заимствование comfort / комфорт, заполняя понятийную и лингвистическую лакуны, номинирует инокультурную ценность. Восходящая к восточно-христианской традиции этика «аскетического самоограничения и самопожертвования» (Й. Херльт, К. Цендер), составляющая в XIX в. доминирующую ценностно-поведенческую модель общества в России, препятствует принятию им ценностей, обобщенно именуемых анализируемым словом. На протяжении XIX -большей части XX вв. оно остается, в целом, ценностно амбивалентным. В рамках начинающейся на рубеже 1980-1990-х гг. трансформации смысложизненных установок российского социума слово комфорт и актуализируемый им образ жизненного успеха в «цивилизованном обществе» становятся инструментом манипулятивного воздействия на сознание носителей русского языка. Средства массовой информации, пропагандирующие прагматические установки гедонистической концепции бытия, конструируют иллюзорный образ реальности, в которой комфорт предстает ключевой ценностью, а достижение его выступает единственной целью существования. Массовое тиражирование в русскоязычном медиапространстве образа «комфортной жизни», проявляющееся, в частности, в лавинообразном росте частотности лексем корневой группы комфорт- и беспрецедентном расширении их семантической валентности, приводит к проникновению квазиценности «комфорт» во все сферы бытия.
Манипуляция, ценность, картина мира, деаксиологизация, комфорт
Короткий адрес: https://sciup.org/149144362
IDR: 149144362 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-339
Текст научной статьи Ценности как объект манипуляции: к вопросу о деаксиологизации русской языковой картины мира
Ценностное основание имеет вся деятельность человека и каждый его поступок. Связанные с когнитивными, эмоциональными и волевыми структурами личности, ценности объективируются в поведении и – на об- щественном уровне – в системе социальных институтов, определяя векторы развития национальной культуры как реализации ценностных отношений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
Категория ценности лежит в основе формирования аксиологического пространства языка, в рамках которого происходит иерархическое структурирование познавательного опыта лингвистической общности. Особенности ценностной картины мира отражают оценочные компоненты значения, возникающие в процессе эмоционально-оценочной интерпретации объективной реальности [Заботкина 2012, 82].
Аксиологическая картина мира, в силу многообразных внешних причин, претерпевает изменения, затрагивающие как поверхностный, так и глубинный, ядерный ее уровень. Наибольшую опасность для национального мировосприятия представляют те аксиологические трансформации, которые являются результатом манипулятивного влияния внешних акторов и интересантов. Манипулирование, предполагающее сокрытие коммуникаторами собственных задач, состоит в неявном информационном воздействии, цель которого – программирование намерений и желаний реципиента, сопровождаемое игнорированием воли последнего и трактовкой его как инструмента исполнения чуждых ему интересов [Соловьев 2006, 469].
Действенным инструментом манипулятивного воздействия является слово, составляющее, с одной стороны, образ, форму и облик мысли, с другой – принцип и архетип культуры [Шпет 1989, 380, 397]. Элементы языкового строя проникают в глубинные структуры повседневности, действуя как скрытые носители «мягкой силы», реализующие когнитивно-познавательную и коммуникативно-поведенческую функции [Свое vs чужое 2019, 331]. Языковая глобализация, начинающаяся, по мнению ряда исследователей, в XIX столетии [ср.: Кувалдин 2017, 13], сопровождается инкорпорированием в русскую картину мира специфических англо-американских концептов, привносящих, наряду с информацией образно-перцептивного характера, чуждые ценности. Выявление языковых средств манипулирования и всесторонний анализ их функционирования в различных дискурсивных практиках русского языка призваны помочь идентифицировать наиболее уязвимые места ценностной картины мира, способствуя уяснению возможных стратегий преодоления угрозы «ядер-ного расщепления» доминант традиционной аксиосферы культуры.
В данной статье ценностные изменения, происходящие в результате неявного воздействия, анализируются сквозь призму динамики концептуального содержания одного из ключевых слов эпохи глобализации – лексемы комфорт .
В русском языке существительное комфорт (англ. Comfort – «житейские удобства, материальное довольство») появляется на рубеже 1820– 1830-х гг., в период широкого увлечения дворянства, как столичного, так и провинциального, английским образом жизни. Англофильство, зародившееся в России в правление Екатерины II, проявляется, по мнению современников, в «предпочтительном и исключительном уважении… всего английского» [Плюшар 1835, 260] и «подражании оному с излишеством»
[Селивановский 1825, 736]. Первые фиксации анализируемого слова в Национальном корпусе русского языка представляют собой графически неадаптированные иноязычные вкрапления, именующие специфически английский концепт, в котором понятие о внешнем устройстве быта сочетается с идеями порядка-соразмерности и психологического удобства. Ср.:
-
(1) «Весьма редко вы найдете в домах наших то, что англичане называют многозначащим словом comfort . Эта тайна гармонического, соразмерного устройства и распределения всех частей помещения, самых малых статей хозяйства, выгодного соображения всех потребностей быта с его способами; тайна, доставляющая какое-то ровное, сладкое существование, – нам почти неизвестна» (A.П. Башуцкий. Панорама Санктпетербурга (1834)).
Представляя собой одно из символических имен новой европейской культуры прогресса, слово комфорт воплощает ценностные устремления индустриального века – веру в «обещание безграничного прогресса, основанного на освоении природы, создании материального изобилия, максимального благополучия большинства и неограниченной свободы личности» [Фромм 2023, 6–7]. В русской культуре новая « религия прогресса », с характерным для нее «триединством безграничного производства, абсолютной свободы и бесконечного счастья» [Фромм 2023, 6–7], вызывает в первой половине XIX в. отторжение как несовместимая с представлением о достоинстве человека. Ср. характерное высказывание А.С. Пушкина, в котором явление, обозначаемое лексемой comfort , маркируется как анти-ценность:
Понятие комфорта продолжает связывается с английским, и, шире, заграничным образом жизни на протяжении XIX–XX вв., о чем свидетельствует ближайший контекст и атрибутивные коллокаты слова comfort / комфорт в Национальном корпусе русского языка – английский (год первой фиксации – 1843), лондонский (1847), европейский (1852), западноевропейский (1912), заграничный (1915), американский (1928).
Феномен комфорта часто ассоциируется с изысканным образом жизни состоятельных кругов общества, выступающих образцом для подражания (ср. утонченный комфорт, 1847; модный, 1851; взыскательный, 1857; столичный, 1857; роскошный, 1861; изящный, 1864). При этом ценностный статус комфорта в иерархии идеалов и устремлений русского человека девятнадцатого века оказывается в целом невысоким, что эксплицирует сдержанная, а порой и отчетливо отрицательная его оценка. Ср.:
-
(3) «Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках может быть выше всякой должностной и ничтожно-видной жизни, со всеми удобствами, блестящими комфорта-ми , и проч. и проч., даже жизни, невозмущенно-праздно протекшей в пресмыканьях по великолепным парижским кафе» (Н.В. Гоголь. Письма (1836–1841)).
Собирательное имя внешнего удобства, комфорт часто противопоставляется, прямо или косвенно, нематериальным ценностям, что объясняется спецификой аксиологических координат, в рамках которых на протяжении столетий выстраивалась русская национальная картина мира. Принятие в качестве единственной всеобъемлющей объективной самоценности абсолютной полноты бытия, данной в Боге, делало все остальные ценности производными: все, существующее в мире, приобретало положительную ценность, если приближало к полноте бытия, и отрицательную, если удаляло от нее [Лосский 2004]. Материальное довольство, «потребление, добротные экономические и политические структуры, нормы свободы и права, блеск и изящество культуры» [Гачева 1995, 64] позиционировались как необходимые и естественные, но иерархически вторичные по сравнению с этическими идеалами – нравственностью, свободой, счастьем. Ср.:
-
(4) «Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт » (Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)).
К образцу христианских аскетических практик, несмотря на радикальное отступление от их аполитичной, исключительно религиозной ориентации, восходила по своим внешним параметрам (отказу от материальных благ, самопожертвованию для высшей цели) этика «аскетического самоограничения и самопожертвования», ставшая преобладающей ценностно-поведенческой моделью в кругах социально сознательной интеллигенции [Херльт, Цендер 2020, 9]. В философско-публицистических текстах эксплицитную отрицательную оценку получает само стремление к внешнему удобству; ср. метафорическое уподобление комфорта идолу – фетишу «религии земного благополучия» [ср. Франк 1990]:
-
(5) «Он один наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое…! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. Для комфорта десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью!.. Для комфорта кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях!.. Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследства; для комфорта… совершают, наконец, преступления!..» (А.Ф. Писемский. Тысяча душ (1858)).
Рост благосостояния городского населения России во второй половине XIX в. способствует расширению денотативного поля слова комфорт , которое начинает соотноситься не только с картиной изящества и богатства, но и с представлениями о «среднем» образе жизни. Среди его определений все чаще встречаются атрибуты, передающие идеи обыкновенности, естественности, напр., домашний (1850), прозаический (1857), недорогой (1870), доступный (1871), привычный (1877), обычный (1881), разумный (1894), ординарный (1912); регулярно используются определения семантики срединности и малости, напр., относительный (1877), умеренный (1885), [ самый ] простой – простейший (1896, 1900), сравнительный (1896), элементарный (1900). Ср.:
-
(6) «Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязаные салфетки – словом, будничный ординарный комфорт интеллигентного труженика» (Александр Грин. Автобиографическая повесть (1912)).
К концу ХIХ в. слово комфорт прочно входит в русский литературный язык как однословный синоним сочетаний житейские / жизненные удобства / блага , что находит свое отражение в лексикографических источниках, напр.: « комфорт – жизненные блага, хорошая материальная обстановка со всеми её последствиями» [Павленков 1907].
В ХХ в. особенности функционирования слова комфорт объясняются, прежде всего, экстралингвистическими причинами. Широко используемое на рубеже XIX–XX вв., в период роста материального благосостояния городского населения России, оно утрачивает частотность в разгар революционного движения 1905–1906 гг. и, «вернувшись» на краткое время в 1910-е гг., оказывается мало востребованным в 1920–1950-е гг. В 197080-е гг. активизация зарубежных экономических контактов, связанная с увеличением экспорта советских нефтепродуктов при одновременном всеобщем дефиците в стране товаров широкого потребления, сопровождается формированием в картине мира носителей русского языка идеализированного образа «цивилизованных стран». Его неотъемлемым элементом является представление о внешних удобствах материальной жизни, обобщенно именуемых словом комфорт . Частотность последнего в этот период неуклонно увеличивается, оценочные коннотации все чаще становятся положительными. Ср.:
-
(7) «У них зарплата 2500 – 3000 марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), у них отпуск у рабочего – 6 недель... У них нет … разницы между деревней и городом ни в смысле благосостояния, ни в смысле комфорта. Безумно обидно и пока непонятно» (А.С. Черняев. Дневник (1979)).
Оценочные смыслы, сдержанно-положительные в аксиологиче-ски-нейтральных контекстах, тяготеют к отрицательным в моменты философско-социальной рефлексии, когда явление комфорта помещается в ситуацию с более широкой ценностной перспективой. Ср.:
-
(8) «А вот новый тип писателя. Он не мучается дурью, как какой-нибудь там Достоевский, …не занимается поисками Бога в душе и не бежит ночью на станцию Астахово. Он ездит в мягкой “Стреле”, проводит уик-энд в Пахре у приятеля, отдыхать ездит в Италию или, на худой конец, в Карловы Вары. Он ценит комфорт , и всякие там “нравственные поиски”, которым он еще отдает дань иногда за вечерней беседой с приятелями, – тоже часть этого комфорта (А.Б. Гребнев. Дневник (1970)).
Присущая писателю «нового типа» подражательность, высвечиваемая в приведенном фрагменте англицизмом уик-энд и топонимами Италия , Карловы Вары , противопоставляется образу художника как «человека ищущего». Ирония, маркируемая местоименными конструкциями семантики пренебрежения какой-нибудь там ( Достоевский ), всякие там («нравственные поиски»), эксплицирует традиционную для русской картины мира иерархию ценностей «материальное» – «метафизическое».
Рост частотности слова комфорт сопровождается в 1970-80-е гг. расширением его сочетаемости. Естественная связь между состоянием материального довольства и ощущением безопасности и покоя позволяет метафтонимически, на основе сходства нервных реакций на физические ощущения и психологические переживания, проецировать актуализируемые словом комфорт концептуальные признаки тепла и уюта на сферу эмоций. Среди его определений все чаще встречаются слова психологический (1979), психический (1981), духовный (1986), эмоциональный (1987). Ср. высказывание Л.К. Чуковской, описывающей внутреннее состояние ( душевный комфорт ) в терминах «своего», обжитого пространства:
-
(9) «Но если верить самой себе, а не прокурору и не газетам, то... то.. рухнет вселенная, провалится под ногами земля, прахом пойдет душевный комфорт , в котором ей так уютно жилось , работалось, аплодировалось...» (Л.К. Чуковская. Процесс исключения (1978)).
Смещенное, «психологическое» прочтение окончательно закрепляется за лексемой комфорт к концу 1990-х гг., когда на смену синкретичному изложению значения в лексикографических источниках (10а) приходят словарные статьи, разграничивающие прямое и переносное значения (10б):
(10a) «Комфорт, -а, м. Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. Устроиться с ~ом. Психологический к. » [Ожегов, Шведова 1994, 283];
-
(10б) «Комфорт, -а, м. 1. Совокупность бытовых удобств; условия жизни, обеспечивающие покой, уют. Устроиться с комфортом .
Обеспечить отдыхающим полный к . 2. Состояние удовлетворения, внутреннего покоя из-за благоприятно сложившихся обстоятельств. Психологический к .» [Кузнецов 1998]; «Комфорт, -а, м. 1. Бытовые удобства: благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщения и т.п. 2. В переносном смысле: душевный комфорт – состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с собой и окружающим миром» [Гусев 1999].
Отказ России от командной экономики и переход к западной модели устройства общества сопровождается в 1990-е гг. активным внедрением в картину мира носителей русского языка ценностей англо-американской цивилизации. В развлекательном дискурсе современных средств массовой информации, подчиняющем своей логике социально-экономическую и политическую сферы повседневной жизни, происходит переориентация на эгоцентричную модель существования, в центре которой стоит самодостаточное и самодовлеющее человеческое «я» [Анненкова 2011, 191–193]. Сформировавшееся в рамках восточно-христианской культурной парадигмы представление об Абсолютной ценности – полноте бытия, данной в Боге [Лосский 2004], намеренно нивелируется, вытесняемое на периферию сознания.
Размывание традиционной аксиологической системы сопровождается абсолютизацией идей комфорта и удовольствия, о чем свидетельствует, в частности, лавинообразный рост частотности субстантива комфорт в текстах медиадискурса. Так, в период с 1983 по 1993 гг. оно отмечено в 38 документах газетного подкорпуса НКРЯ; в 1994–2003 гг. показатель вырастает до 1244; в 2004–2013 гг. – до 4828. Возможности глобальных медиа-акторов значительно расширяются с повсеместным внедрением информационных технологий; так, поисковая система «Google» на запрос комфорт предлагает 131 000 000 ответов (ср. 118 000 000 для ключевого слова счастье и 13 200 000 для слова совесть ), стимул comfort вызывает ок. 6 220 000 000 реакций (1 560 000 000 – happiness ).
Меняется и ценностный статус концепта «комфорт». Сдержанно-нейтральная оценка, характерная для текстов предшествующих десятилетий, уступает место положительной; комфорт , как обобщенное имя положительно окрашенных переживаний, все чаще именует главную ценность человеческого существования. Аксиологические установки подобного рода находят свое эксплицитное выражение, в частности, в рамках оптативных высказываний, свойственных речевым актам пожелания. Ср.:
-
(11) «Сергей Алексеевич! В день рождения желаю одного – душевного комфорта » (Дни рождения // Коммерсант, 2010.07.23);
-
(12) «С праздником, малышки! …Жизнь одна и если смысл не в том, чтобы прожить её с максимальным комфортом для себя, то в чём?» (vk (08.03.2018)).
Стремительная экспансия идеи комфорта проявляется в беспрецедентном росте активности единиц словообразовательного гнезда комфорт- . Число корпусных фиксаций прилагательного комфортный в период 1990–2021 гг. увеличивается по сравнению с предшествующими тремя десятилетиями более чем тридцатикратно (1960–1989 гг. – 28 документа vs 1990–2021 гг. – 866 документов); частотность наречия комфортно вырастает почти в тридцать четыре раза (1960–1989 – 19 документов; 1990– 2021 – 637).
На фоне «духовной безбытности» [Флоровский 1991, 461] увеличивается внимание к внешнему быту, который, приобретая исключительную онтологическую убедительность, «вбирает» не только бытовые, но и психологические реалии. В постиндустриальном обществе, заблудившемся «в собственном изобилии» [Ортега-и-Гассет 2000, 66], манипулятивное эксплуатирование квази-ценности «комфорт» проникает во все области бытия, подчиняя эгоцентричной логике потребления эмоции и чувства, желания и потребности.
На словесном уровне это проявляется, в частности, в максимальном расширении семантической валентности прилагательного комфортный . Свободное, в отличие от его семантического дублета, прилагательного комфортабельный , от устойчивых ассоциаций с предметной сферой, оно вступает в сочетания со словами потенциально любой семантической области, напр., одежды (напр., комфортная обувь , 2001), транспорта (напр., комфортный автобус , 2000; велосипед , 2002; автомобиль , 2003; лайнер , 2003; самолет , 2005), питания ( комфортное вино , 2002; еда , 2003; продукты , 2004), материалов ( комфортный песок , 2017). Оно сочетается с процессуальными существительными (напр., комфортное вождение , 2002; поездка , 2002; стажировка , 2002; игра , 2002; бритье , 2002; обучение , 2005; мытье , 2010), с именами природных явлений (напр., комфортная погода , 2002; микроклимат , 2003; метеоусловия , 2004; мороз , 2020), периодов (напр., комфортные выходные , 2002; время , 2002; сезон , 2004; дни , 2004). В сферу комфорта вовлекаются феномены, традиционно ассоциировавшиеся в русской картине мира с понятием идеального, такие как искусство, ср., комфортная музыка (2006), фильм (2013), эстетика (2013), искусство (2015), песни (2018). В настоящее время потенциальные коллокаты слова комфортный варьируются от процессуальных имен физиологической сферы ( комфортное пищеварение ) до правовых терминов ( комфортный законопроект ).
Стремительная экспансия идеи комфорта, сопровождающаяся характерными для общества потребления процессами индивидуализации и разобщения, приводит к проецированию идеи удобства, психологического и физического, на представления на межличностные отношения. Возникают сочетания прилагательного комфортный с лексемами общение (2002), контакт (2011), беседа (2012), язык (2015), переговоры (2016), коммуникация (2017), собеседник (2017). С середины 2000-х гг. среди коллокатов прилагательного комфортный фиксируются имена лица, напр. комфортный клиент (2007), компаньон (2007), партнер (2009), акционер (2011), об- щественник (2012), деятель (2014), контрагент (2015), оппонент (2015), аудитор (2016), соперник (2016), инвестор (2016), кандидат (2018), глава МВФ (2021).
В социуме, где «ничто внешнее не побуждает к самоограничению» и не побуждает «считаться с кем-то, особенно кем-то высшим» [Ортега-и-Гассет 2000, 101], эгоизм возводится в ранг необходимости. Ключевой ценностью становится самовыражение, и единственной точкой референции, относительно которой оценивается реальность, оказывается «я» говорящего. Широкое распространение получает сочетание комфортный человек , позволяющее охарактеризовать личность с точки зрения ее «психологической совместимости» с говорящим. Ср.:
-
(13) «Интересно, почему фраза “удобный человек” воспринимается как что-то негативное, мол, человек не должен быть удобным…, а вот фраза “комфортный человек” – это уже комплимент?» (vk (7.04.2023));
-
(14) «В моём понимании приятный человек – кто-то, с кем просто приятно находиться, общаться, проводить вместе время; комфортный человек – кто-то, с кем чувствуешь себя как дома, кто-то, кто вызывает тепло в душе, чувство уюта» (vk (7.04.2023));
-
(15) « Комфортное кресло – это кресло, в котором удобно сидеть, так и ассоциация, что комфортный человек – человек, с которым удобно общаться, т. е. как бы утилитарное отношение к человеку» (vk (7.04.2023)).
Проведенное исследование позволяет заключить, что в смысловых трансформациях лексемы комфорт с рельефной отчетливостью отражается процесс манипулятивного влияния эгоцентрически ориентированного медиадискурса на русскую картину мира. Актуализирующее ценностные установки иной культуры, слово комфорт изменяет изнутри «питательную среду» мысли [ср. Шпет 1996, 55], оказываясь инструментом воздействия на концептуальную картину мира русскоязычного социума. Деаксиологизация картины мира русского человека, сформировавшейся в рамках восточно-христианской культурной парадигмы, сопровождается нивелировкой ценностных антитез «внутреннее – внешнее», «временное – вечное». Активная популяризация образа «комфортной жизни» в медиапространстве приводит к экстраполяции идеи комфорта, первоначально ограниченной представлением о внешнем благополучии, на все сферы жизнедеятельности индивида и социума. В обществе потребления лексема комфорт становится именем псевдо-ценности, достижение которой позиционируется в качестве единственной цели человеческой жизни.
Список литературы Ценности как объект манипуляции: к вопросу о деаксиологизации русской языковой картины мира
- Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М.: Издательство Московского университета, 2011. 392 с.
- Гачева А. Ф.М. Достоевский и Ф.И. Тютчев о человеке и истории // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 42-77.
- Гусев И.Е. Современная энциклопедия. Минск: Харвест, 1999. 349 с.
- Заботкина В.И. Слово и смысл. М.: РГГУ, 2012. 428 с.
- Кувалдин В.Б. Глобальный мир: политика, экономика, социальные отношения. М.: Весь мир, 2017. 400 с.
- Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. 1534 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2004. 504 с.
- Национальный корпус русского языка [Сайт]. URL: http://ruscorpora.ru (дата обращения: 23.05.2023).
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. 928 с.
- Ортега-и-ГассетХ. Восстание масс // Ортега-и-ГассетХ. Избранные труды. М.: Весь мир, 2000. С. 43-163.
- Павленков Ф.Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1907. 370 с.
- Плюшар А. Энциклопедический лексикон. Т. 2. СПб.: В типографии Плю-шара, 1835. 503 с.
- Свое vs чужое в дискурсивных практиках современного русского языка / под ред. Н.Г. Бабенко, Т.М. Шкапенко. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2019. 345 с.
- Селивановский С. Энциклопедический словарь. Т. 4. Ч. 1. М.: Типография С. Селивановского,1825. 1752 с.
- Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М.: Аспект-Пресс, 2006. 559 с.
- Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс: [б. и.], 1991. 599 с.
- Франк С.Л. Этика нигилизма (К характеристики нравственного мировоззрения русской интеллигенции) // Франк СЛ. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 77-110.
- Фромм Э. Иметь или быть? М.: АСТ, 2023. 352 с.
- Херльт Й., Цендер К. Изобилие и аскеза в русской литературе: Идеи и практики (приближение к теме) // Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения. М.: НЛО, 2020. С. 6-14.
- Шпет Г.Г. Психология социального бытия. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. 492 с.
- Шпет Г.Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. 602 с.