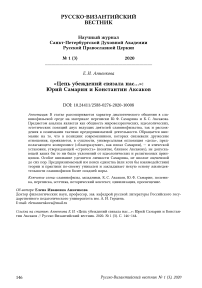"Цепь убеждений связала нас.. ": Юрий Самарин и Константин Аксаков
Автор: Анненкова Елена Ивановна
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ю. Ф. Самарина (1819-1876)
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается характер диалогического общения в славянофильской среде на материале переписки Ю. Ф. Самарина и К. С. Аксакова. Предметом анализа является как общность мировоззренческих, идеологических, эстетических позиций двух ведущих деятелей славянофильства, так и расхождения в понимании тактики предпринимаемой деятельности. Обращается внимание на то, что в позициях современников, которых связывали дружеские отношения, проявляется, в сущности, универсальная оппозиция «дела», предполагающего компромисс («благоразумие», как писал Самарин), - и этической установки, утверждающей «строгость» (понятие, близкое Аксакову), не допускающей каких бы то ни было уклонений от идеологических и религиозных принципов. Особое внимание уделяется личности Самарина, не вполне оцененной до сих пор. Предпринимаемый им поиск единства (или хотя бы взаимодействия) теории и практики по-своему уникален и закладывает некую основу жизнедеятельности славянофилов более поздней поры.
Славянофилы, западники, к. с. аксаков, ю. ф. самарин, полемика, переписка, эстетика, исторический контекст, цивилизация, просвещение
Короткий адрес: https://sciup.org/140294757
IDR: 140294757 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10008
Текст научной статьи "Цепь убеждений связала нас.. ": Юрий Самарин и Константин Аксаков
Свои отношения с Ю. Ф. Самариным К. С. Аксаков выразил в одном из стихотворений 1840-х гг.:

Константин Сергеевич Аксаков

Юрий Федорович Самарин
Не душ влеченье, Не сердца глас, — Цепь убеждений Связала нас1.
На самом деле, конечно, «сердца глас» также имел место, хотя, может быть, зов его в первые годы после знакомства ощущал, прежде всего, Самарин, признававший гораздо позже, что был под сильным влиянием Аксакова: «Ты первый высказал для меня все неясные ощущения души моей, неопределенные сочувствия, требования пробудившейся мысли <...>, под твоим влиянием определился мой образ мыслей»2.
В 1839 г. К. Аксаков и Ю. Самарин, оба кандидата Московского университета, до того времени, как пояснял Иван Аксаков, почти незнакомые друг с другом, решили готовиться вместе к экзамену магистра, который и сдали в 1840 г., а далее оба занялись магистерскими диссертациями3. Иван же отметил разность, даже «противоположность» натур Константина Аксакова и Самарина: «...в этом товариществе мысли и пропаганды творчество мысли, страстное к ней отношение, рьяность проповеди принадлежала собственно К. С. Аксакову. Он был не только философ, но еще более поэт, <...> и строгий логический вывод, даже в научных исследованиях, почти всегда упреждался в нем каким-то художественным откровением <...>. Природа Самарина была совершенно противоположна природе К. С. Аксакова. Если Самарину недоставало творчества и почина, то он превосходил своего друга ясностью, логическою крепостью и всесторонностью мысли, зоркостью аналитического взгляда <...>. Он не только ничего не принимал на веру, но, в противоположность своему другу, был исполнен недоверия к самому себе и подвергал себя постоянно аналитической проверке. К. С. был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Самарин никого не увлек, подобно ему, художественностью и страстностью речи, но, доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в устном и письменном слове с такою точно стью и прозрачностью, в такой неотразимой последовательности логических выводов, что это составляло красоту своего рода: подобного ему в этом отношении, по крайней мере, в России, не было другого и едва ли скоро будет»4. При этом особо хочется обратить внимание на одно высказывание Самарина. В пространном письме к Аксакову 1846 г. (он писал его два дня: 19 и 20 июня, и это одно из самых откровенных писем Самарина) он обронил фразу: «...Я не могу не заметить, что во всех вопросах, в которых мы расходились, я всегда должен был признать, что твое мнение истинно, как половина полной истины. Поэтому спор с тобою есть не что иное, как дополнение недостающей половины...» (III, 281. Здесь и далее курсив автора цитируемых строк, — Е. А.)5.
Итак, была общая университетская юность (учились не вместе, но оба оставили воспоминания о Московском университете6), определенная эмоционально-психологическая общность, возникшая на основе увлечения немецкой философией, прежде всего — Гегелем; безусловное единство воззрений (на отечественную историю и культуру), со второй половины 1840-х гг. — сходное понимание роли христианства, и именно православия. Психологической почвой общности была, возможно, и особая связь с родительским домом, хотя тип семьи был не одинаков, а вот особая кровнодуховная связь с отцом оказалась присуща тому и другому.
Споры, которые ведут между собой Самарин и Аксаков (о Москве и Петербурге, о возможности или невозможности государственной службы, о содержании научных трудов, об использовании народной одежды) позволяют уловить персональные, можно сказать, глубоко личные оттенки понимания тех или иных вопросов в славянофильских кругах. И все-таки хочется обратить внимание прежде всего на другое. Предметом споров часто становились не столько славянофильские идеи, сколько, можно сказать, методология славянофильства, а точнее — форма подачи, аргументации, внедрения в общественное сознание дорогих «убеждений», принятых не только умом, но и «сердцем».
Письма Самарина свидетельствуют, что славянофильство 1840–1850-х гг. — не жесткая теория, формулируемая в качестве безусловной нормы, а теория вырабатываемая, становящаяся, что позволит ей во второй половине XIX в. стать более действенной, непосредственно влияющей на общественный процесс и одновременно — в чем-то уклоняющейся от строгости первоначального учения.
Преимущественное внимание будет уделено письмам Самарина, поскольку именно он — как это ни покажется странным — в дружеском диалоге оказывался наиболее активной стороной. Будучи чрезвычайно занятым по службе, он, может быть, тем больше нуждался в дружеском общении и активно пользовался любой возможностью частного, откровенного, пусть и заочного, лишь эпистолярного диалога. Самарин не раз пенял Аксакову на то, что тот редко пишет («Да что ты не пишешь? Я завален делом, точно завален; мне простительно, что я редко пишу, а ты все-таки человек досужий. Или нам считаться письмами?» — III, 290). И даже жаловался другим, например, М. П. Погодину: «Константин Аксаков меня совсем забыл. Скажите ему это от меня» — III, 322). Аксакову же, как заметил еще его брат, было ближе живое, устное слово. Характер эпистолярного общения Самарина и Аксакова позволяет выявить некоторые принципиальные мыслительные и поведенческие стратегии деятелей славянофильства.
Знаменательно, что первоначально, на границе двух десятилетий (1830/1840-х гг.) общим был интерес к литературе. Неоднократно на страницах писем Самарина встречаются имена европейских романтиков (Гофмана, Шамиссо и др.). Известно увлечение Константина Аксакова Гофманом, Шиллером, постоянно упоминаемыми в письмах к М. Г. Карташевской второй половины 1830-х гг. В 1840-м Самарин пишет Аксакову: «Вчера я просидел битых три часа вдвоем с Каролиной Карловной <Павловой>. Мы перебрали все вопросы, которые занимали и занимают Вас и меня. Говорили о Фаусте, о французах, о Занде, о бессмертии души, о Гегеле, о любви и т. д.» (III, 245). Это, можно сказать, джентльменский набор чтения молодого человека, прошедшего через 1830-е гг.
Следует отметить эстетическую интуицию Самарина: он размышляет о «тайне творчества», чувствует «отсутствие простоты» в литературной критике С. П. Шевы-рева. Правда, прочитав магистерскую диссертацию К. Аксакова (1847), писал ему: «О филологической части я не могу судить. Это для меня — terra incognita...» (III, 286), однако не только в 1840-е гг., но и позже откликался на наиболее значительные литературные явления, при этом личность художника занимала его едва ли не больше, чем создаваемые произведения.
В 1838 г. Самарин знакомится с М. Ю. Лермонтовым, в 1844-м — с Ф. И. Тютче-вым7, во второй половине 1840-х вступает в переписку с Н. В. Гоголем. Если вначале Лермонтов заинтересовал Самарина как автор стихотворения, написанного на смерть Пушкина, то после гибели поэта, которая была воспринята им как национальная тра-гедия8, он пытается осмыслить феномен личности Лермонтова и характер его рефлексии, в котором выразилось время. Самарин парадоксально, на первый взгляд, ставит вопрос: на Лермонтове, полагает он, «лежит великий долг», который он мог бы искупить, если бы не преждевременная трагическая смерть. Творчество Лермонтова, прежде всего, роман «Герой нашего времени», отмечено «эгоистической рефлексией», которую в дальнейшем, убежден Самарин, поэт мог бы преодолеть9. Гибель Лермонтова «поражает незаменимой утратой целое поколение»; это «общее горе, гнев Божий, говоря языком Писания, и, как некогда при казнях свыше, посылаемых небом, целый народ облекался трауром, посыпая себя пеплом, и долго молился в храмах, так мы теперь должны считать себя не безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя» (III. 58).
С оттенком трагизма говоря об «эгоистической рефлексии» (в которой пребывал Печорин и отчасти сам поэт, не успевший ее преодолеть), Самарин, вместе с тем, сознает историческую обусловленность подобной рефлексии и даже ее оправданность. М. Т. Ефимовой отмечено, что над творчеством Лермонтова Самарин размышляет в тот момент, когда сам находится на распутье10. А в 1846 г. он пишет Гоголю: «Болезнь моя принадлежит к числу самых обыкновенных в наше время, <...> это — одностороннее развитие ума, погасившее чувство и подорвавшее волю; цельность нравственного бытия, согласие душевных сил и способностей нарушены во мне исключительным преобладанием быстро и уединенно развившейся мысли и усыплением других способностей. Я думаю, говорю, защищаю на словах одно, а на деле покоряюсь другому; у меня есть убеждения, но нет ни веры, ни любви. Я это сознаю и не страдаю от этого; я живу довольно спокойно, я могу позабывать, что половина души моей отсохла и онемела» (III, 423)11.
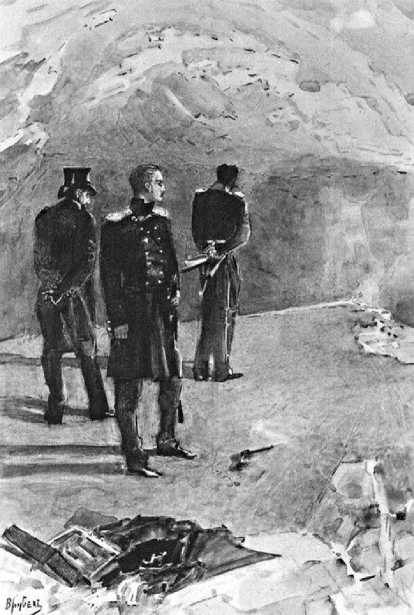
Дуэль Печорина с Грушницким. Иллюстрация к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Худ. М. А. Врубель, 1880–1881 гг.
Вряд ли случайно К. Аксаков, задумав в 1842 г. написать «целую статью» о Гоголе, сразу сообщил о том Самарину. А когда его работа в виде брошюры («Несколько слов о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души“». М., 1842) выходит в свет, он советуется с другом, стоит ли отвечать на критику. Откликаясь позже на «Выбранные места из переписки с друзьями», Самарин делится с Аксаковым
«тяжелым и грустным впечатлением», которое произвела на него первоначально книга, при этом в письме проявляется тонкость и эстетических, и духовных размышлений критика. На первый взгляд, в суждениях Самарина присутствует противоречивость: он находит в книге недостатки, но одновременно ищет у автора душевной и духовной помощи. Признается: «Особенно поражает отсутствие потребности
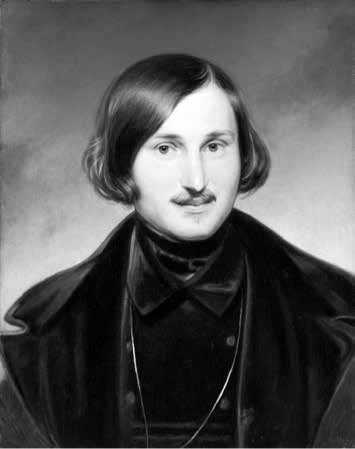
Портрет Н. В. Гоголя. Худ. Ф. А. Моллер, 1841 г.
сочувствия с публикой» (III, 286), досадует, что не слышит в Гоголе «простой, безотчетной потребности поведать всем красоту святого, поделиться со всеми теплым чувством, ясной мыслью, ниспосланной Богом», а это, по Самарину, есть «самое чистое и высокое побуждение художника»12 (III, 287), однако ищет сближения с писателем (в чем просит А. О. Смирнову ему помочь) и хотел бы отправлять Гоголю исповедальные письма, чтобы хотя изредка получать ответ. Он нуждается общения с человеком, обладающим «властью духовною», и автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», книги, не вполне принятой, представляется именно таковым. Подлинного художества Самарину недостает в книге, но замеченную Гоголем в обществе «жажду исповеди», он находит и в себе, а избавиться от опасности «отрицательной рефлексии», искушение которой познал Лермонтов, надеется с помощью Гоголя. Истинный художник, убежден Самарин, смог бы «поведать всем красоту святого», но инстинктивно он допускает, что целительность красоты и святости недоступна «нынешнему времени» или даже пока недостаточна для него, и потому ищет другого художника, способного властно повести за собой. Пишет А. О. Смирновой (почти в то же время, что и Аксакову о Гоголе): «Неужели, в самом деле, не явится на Руси такого человека, власть имущего, разумеется, власть духовную, которому бы можно было вполне отдаться с уверенностью, что он выведет нас в чистое поле, или не зачнется такого дела, которому бы можно было посвятить себя, зная наверное, что оно будет иметь результаты?» (III, 445); «неужели я не найду себе в царстве русском дела по душе?» (III, 444).
Способность понимания литературного текста, чуткого его восприятия еще не раз будет давать о себе знать в письмах Самарина. И все же — когда он сообщал Аксакову еще в начале 1840-х гг., что «давно имел желание побеседовать о предметах, которые занимают», как признавался, «только Вас и меня», он говорил о литературе, но одновременно — и о богословских «предметах», которые интересовали его не меньше: «...Вопрос о католицизме и протестантизме, о религии вообще начинает мне уяснять-ся13. Наконец воскресает во мне давно почившая, живая, нетерпеливая деятельность мысли» (III, 241). Здесь, пожалуй, нашло выражение своеобразное состязание в славянофильском мышлении эстетического, интуитивного и — философского, логического познания. Самарин, действительно, совершает сердечный выбор, о чем свидетельствует следующая фраза: «Она <живая деятельность мысли> кипит во мне и не дает места другим <...> интересам в моем существовании. Да можно ли передать словами отрадное сознание этой живой, органической работы ума, которая совершается в нас от времени до времени и стократно вознаграждает нас за целые периоды скуки и бесплодные занятия» (III, 241).
Хотя у Самарина это, можно сказать, — мысль-чувство, идея-чувство, все же не случайно в стихотворении Аксакова была упомянута «цепь убеждений» как основа сближения, дружества. И сам Константин Аксаков в 1840-е гг. «спор» литературы и идеологии решает в пользу последней (что не мешает ему, однако, писать и стихотворения, и драматические произведения). А Самарин и в единомышленниках более всего ценил живую мысль (см.. напр., о Валуеве: «Я не знаю человека, который бы глубже принял в себя те живые начала мысли, которые нам доступны большею частью только как отвлеченные мысли и выводы науки» (III, 392). И гораздо позже, уже в 1870-е гг., откликаясь на труд К. Д. Кавелина «Задачи психологии», признавался: «...Мне было приятно увидеть опять нерукотворные вершины человеческой мысли, давно маня манившие, и на которые я тоже пробовал когда-то взбираться»14.
Почему же, может возникнуть вопрос, Самарин все-таки приглушает свои эстетические способности, только ли потому, что именно мысль, в его понимании, наделена особой жизненной силой? В письме к М. П. Погодину (1847) он замечает, что в настоящий момент «у нас не ложное направление мысли, а безмыслие господствует», и заключает: «Против него литературные средства бессильны» (III, 320), а далее поясняет: «Вот почему я пришел к тому убеждению, что пора общественного влияния журнальной деятельности или прошла, или еще не наступила. Мне кажется, что теперь нам надобно бы не соединяться для литературных предприятий, а разойтись врозь и действовать в одном духе, каждый в своем кругу, примером и личным влиянием» (III, 320). Правда, прибавляет следующее: «Мне так кажется, может очень быть, что я ошибаюсь» (III, 320). Вот тут и наступает время славянофильской рефлексии. Вначале — это призыв к единомышленникам (осмыслить самих себя, проанализировать результативность деятельности), затем — призывание к рефлексии и оппонентов.
Середина 1840-х гг., как известно, время размежевания славянофилов и западников. Вторая половина десятилетия — пора осознания если не антагонизма, то противоположности убеждений. Показательно, что и Аксаков, и Самарин говорят о литературном «деле», именно — о литературной продукции Петербурга и Москвы. «...Литературный спор между Москвой и Петербургом в настоящее время, конечно, необходим, — признает Самарин в статье «О мнениях „Современника“, исторических и литературных» (1847) и прибавляет: «дело в том, как и с кем его вести. Петербургские журналы встретили московское направление с насмешками и самодовольным пренебрежением» (I, 85). Петербургские журналы уже успели заявить о себе; «московское направление» они встречают как нечто новое и, в известном смысле, неполноценное. Но вступая в «литературный спор», то есть в спор с позицией петербургского журнала, Самарин, конечно, говорит не только о литературной продукции. Анализируя статью К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России», он касается вопроса, основополагающего для каждого из направлений русской общественной мысли и решаемого принципиально различно, — вопроса о личности. При этом Самарин как раз побуждает поглубже осмыслить те явления и понятия, которыми оперирует Кавелин и авторы, им цитируемые. Так, обращаясь к тезису Кавелина о том, что «задача истории русско-славянского племени и германских племен различна», он констатирует: это различие его оппонентом видится в том, что (Самарин цитирует Кавелина) «последним (т. е. германским племенам, — Е. А.) предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собой, в личность человеческую; нам предстояло создать личность...» (I, 92), — и далее предлагает обсудить содержание категорий: личность, человек; идея личности в западном христианстве и в восточном христианстве. Самарин, например, цитирует строки «одной из последних книг, полученных из Франции»: «Три начала господствуют в мире и в истории: авторитет, индивидуализм и братство» и комментирует: «Заметьте: братство — слово, взятое из семейного быта, — а не равенство. Какая же разница между отрицательным началом равенства и положительным братства, если не прирожденное чувство любви, которого нет в первом и которое составляет сущность второго?» (I, 94). В каждом абзаце у Самарина — по несколько вопросов, что говорит о том, что у него есть осознание онтологического несходства похожих, на первый взгляд, понятий (братство — равенство, личность — человек, дело — поступок).
Самарин берет понятия, употребляемые К. Д. Кавелиным, обращая внимание на то, что суть их не истолкована, сложность исторического их проявления не учтена. Ка-

Константин Дмитриевич Кавелин
велин «с готовыми понятиями <...> приступил к русской истории и, разумеется, определил ее отрицательно : его поразило отсутствие личности как безусловного мерила, т. е. германской личности , и отсюда он вывел отсутствие личности вообще <...>. Значит, все, что у нас было своего, предназначено было в сломку» (I, 99). Объективно, конечно, Самарин признает серьезное содержание статьи Кавелина, но побуждает к тому прояснению позиций, которое, кто знает, могло бы обнаружить точки соприкосновения между полемизирующими сторонами или сделать спор более продуктивным. Но взаимно конструктивный спор, в силу принципиальной разницы позиций, не складывался15.
Не потому ли и возникало ощущение необходимости осмыслить, трезво оценить, проанализировать и собственную тактику: не столько содержание убеждений (они вряд ли допускали пересмотр), сколько форму их подачи. В письме к Аксакову еще 1845 г. (т. е. в пору размежевания) мы встречаем слово, несущее явно отрицательную коннотацию, — «москвитизм». Последние письма Аксакова, признается Самарин, его «очень обрадовали». Почему же? — «...Потому что в них я уже не нашел признаков внутренней исключительности, ни выражения отрицательной стороны москвитизма» (III, 260). Константину Аксакову, в самом деле, была свойственна изрядная доля «исключительности». Самарин свое письмо посылает из Петербурга. В его письмах антитеза Петербурга / Москвы, конечно, присутствует, но именно потому, что он видит,

Москва, стены Кремля.
Фотография 1852 г.
ощущает ее не из Москвы, а из Петербурга, эта антитеза приобретает определенный драматизм (подобного оттенка в письмах Аксакова, конечно, нет). С одной стороны, констатирует Самарин, «чувствуешь, что здешний (петербургский, — Е. А. ) мыслящий человек получил другое воспитание, что его интересует другое, что, наконец, вся жизнь его, мысль, сочувствие, деятельность направлены не в ту сторону, в которую смотрим мы». «Охота спорить, — продолжает Самарин, — пропадает; молчишь и с внутренней досадою пропускаешь мимо ушей оскорбительные, полные надменного пренебрежения отзывы о нашей старине, о нашей вере, о русском народе вообще» (III, 261).
С другой стороны, — возникает у Самарина вопрос — что же Москва? Служа в Петербурге, он тоньше, проницательнее своих единомышленников может понимать, что все-таки можно было бы ожидать от Москвы. Петербург высказывает поверхностные суждения «о нашей вере», а что же «мы»?! «При внутреннем единстве направления, какое господствует у нас в Москве, — констатирует Самарин, — случается часто, что иная мысль, пущенная в ход, принимается всеми на веру, по непосредственному сочувствию. Это прекрасно, и дай Бог, чтобы никогда не умирало в человеке это доверие, эта внезапность сочувствия; но мысль должна быть доказана и оправдана не только ради возражений, которые она встретит при своем распространении, но ради самой себя. Мы еще ничего не доказали или очень немногое; все, что мы утверждаем о нашей истории, о нашем народе, об особенностях нашего прошедшего развития, все это угадано, а не выведено <...>. Я занимаюсь теперь русскою историею и чувствую потребность воздержаться на время от общих выводов и общих построений; я хочу

Москва, южная часть Кремля со Старого моста.
Фотография 1852 г.
подвергнуть исследованию все наши положения: об отсутствии завоевания, об отсутствии аристокрации, о значении личной власти и т. д. Для этого нужно пройти все источники русские и иностранные; работы предо мною много» (III, 261).
Самарин не сомневается, что «то направление мысли, которое характеризует Москву, со временем проникнет всюду и пересоздаст государственную, общественную и семейную жизнь», но это время, замечает он, «еще ужасно далеко», так как «мысль московская <...> не может дать ответа ни на один из тех вопросов законодательных, административных и прочих, которые возникают и должны же быть решены как-нибудь. Вот почему петербургское направление идет своим чередом и почему отрицательный образ действий против него совершенно бесплоден» (III, 274). Нужно, можно сделать вывод, искать иной образ действий.
Петербург и Москва — в этом контексте — предстают не только как олицетворение двух направлений русской мысли того времени, но как два мира, чуть ли не две цивилизации, их противоположность и противостояние несут в себе онтологический смысл. А между тем — это и две составляющие русского мира. И потому Самарин размышляет о том, что в принципе невозможно, непредставимо для Аксакова, сказавшего, что Петербург — незаконнорожденный город16. Самарин же, в одном из писем, воссоздает характер своего общения с представителями петербургского официального мира: «Я знаю в Петербурге многих людей, прямо противоположных мне по образу мыслей. При первой встрече с ними я дал себе слово с ними не знаться. Совершенно внешняя необходимость меня с ними сблизила, и у многих из них я должен был признать светлые, незараженные стороны, некоторые живые движения, скованные ложным образом мыслей. Я сблизился с ними и убедился, что те, которых я считал погибшими, способны обратиться. Можно было склонить их к другому образу мыслей, но за это надобно было взяться благоразумно. Иной чувствовал превосходство русского человека над немецким, народа над образованным классом, в другом жива была потребность веры, третий знал и любил Москву, хотя, может быть, с чисто художественной стороны. Если б я потребовал от них, чтобы они надели мурмолки, если б я прочел им некоторые из твоих стихов, если бы я высказал им всем вдруг и с одного разу весь мой образ мыслей, они бы с ужасом отвернулись. Надобно было действовать на них иначе: с одними говорить о Москве и до поры до времени не упоминать о православии, с другими — наоборот. <...> Я действовал с целью, благоразумно, напирая более на то, в чем с ними сходился. Видна ли в этом уступка, видно ли послабление? Я думаю, что нет. Я убежден, что, говоря с другим и для другого, мы обязаны говорить его языком, языком, доступным не только его пониманию, но сердцу; все это предполагает цель, расчет, благоразумие. Благоразумие! Я очень хорошо понимаю, сколько оскорбительного может быть в этом слове <...>. Пусть думают обо мне, что хотят, — я благоразумен по убеждению, может быть, и по природе; я признаю это вслух; но я желал бы, чтобы мне указали на человека, сознательно неблагоразумного» (III, 279–280).
Поэтому и позиция Константина Аксакова не могла не стать предметом осмысления. Аксаковская «исключительность» («Нет, Аксаков, воля твоя, в тебе есть исключительность, но только ты не чувствуешь ее» — III, 262) удручает Самарина не только потому, что в какой-то мере осложняет их отношения, но и потому, что может нанести вред «общему делу». «Ах, Аксаков, — восклицает он в одном из писем 1846 г., — сколько мы с тобой потеряли времени! По крайней мере, утешь меня хоть тем, что ты теперь усердно трудишься для общего дела»17 (III, 268).
Не только письма к Аксакову, но и к А. Н. Попову содержат немало горьких, одновременно — аналитических размышлений. 1846 г.: «Мне любопытно знать, какое впечатление произвела на Вас Москва после Петербурга и как Вам представляется их отношение. Этот вопрос может быть решен только теми, которые выслушали бы обе стороны, по опыту знают их жизнь, а не понаслышке, и могут судить беспристрастно, а он так важен, что от решения его зависит определение всей нашей деятельности, литературной и практической» (III, 349). 1848 г.: «Итак, о Москве <...>. Теперь нет двух человек, которые бы стояли вместе, заодно; все разбрелись врозь, и даже не удержалось приятельских отношений, чем-нибудь не помраченных <...>. Все это произошло, мне кажется и я даже уверен, оттого, что мысль, доведенная до известной степени развития, должна перейти в дело, осуществиться; за отсутствием общего дела, потребность деятельности порождает споры, люди начинают не соглашаться между собою потому только, что они два года, будучи во всем согласны, каждый вечер говорили об одном и том же и только говорили. Повторяю опять: одно дело может связать надежно» (III, 354–355); «Слышали вы, что в Москве хотят издавать сборник выпусками? Опять неудачная попытка и новое обличение нашего бессилия» (III, 357). 1849 г.: «В ожидании новых занятий по службе я наслаждаюсь удивительным летом и занимаюсь политической экономиею и финансами. Вам можно это сказать, а Аксаков поступил бы со мною за это как с чернокнижником» (III, 361). Можно сказать, что в письмах Самарина задается импульс для осмысления технологии славянофильского дела, при этом предметом размышлений становится и соотношение «дела» и «труда». Труд может быть персональным, индивидуально окрашенным, в нем на первом плане — содержательная составляющая. Дело должно быть прагматично, «благоразумно» продумано, приносить результат. Поэтому журнал, альманах, брошюры, газета — формы «дела» — и становятся предметом обсуждения.
В письме к А. И. Кошелеву (1857) Самарин касается издательской деятельности Ивана Аксакова: «...Радуюсь я и тому, что И. Аксакову отказано в издании газеты. Вопреки вашему мнению, я убежден, что газета для нас не только не необходима, но положительно вредна. Она отнимает много времени, ума и сил. На этом поприще нам нельзя тягаться с поборниками цивилизации. Они живут на готовом содержании, получают из-за границы умственное продовольствие, остается его сбывать по мелочи; а мы должны насущный свой хлеб зарабатывать сами». Думается, в данном случае, подразумевалась не финансовая только поддержка; «насущный свой хлеб», — скорее, в евангельском смысле, но и в преломлении к общественной практике: идеи славянофилы вырабатывали сами, а не заимствовали их. И далее Самарин продолжает: «Наш образ мыслей в главных чертах заявлен. Теперь публика требует у нас положительных, капитальных трудов, полновесных доказательств, а не воззваний и увещеваний. Это требование выражалось очень ясно. Нас обвиняют в дилетантизме, и упрек небезоснователен. Нас мало для двух изданий, и между нами нет такого существенного разногласия (есть только оттенки), которое бы оправдывало раскол. Вы говорите: „Как нам не иметь своей газеты!“ После этого я скажу: „Как нам не иметь своих представителей в гостиницах, при Дворе и т. д.“». И далее мыслитель высказывает суждение, под которым могли бы подписаться и Хомяков, и Константин Аксаков: «Призвание наше совсем иного рода» (III, 542).
Возвращаясь и возвращаясь к вопросу о «деле», которым славянофилы должны заниматься целенаправленно и сообща, признавая, вместе с тем, бессилие целого ряда предпринимаемых попыток воздействовать на общественное мнение, Самарин, думается, уловил особую природу славянофильской деятельности, не укладывающейся в некие общепринятые, выработанные цивилизацией формы. Для славянофилов принципиальным было настаивать на различии славяно-русского православного мира и мира западного18. Это более всего отразилось в смысловом истолковании понятия, получившего широкое хождение и в западноевропейской, и в русской мысли, — понятия просвещения. В 1846 г. Самарин остерегает брата от односторонности «философских убеждений» и «исторических значений», которые Владимир может получить в университете. Он поясняет: «Система их, вышедшая из условий западного развития, прилагается к истории народов западных; но они забывают, что есть другая половина, целый мир православно-славянский, который им вовсе не ведом и с их точки зрения не может быть понят. Изучение этого мира и сочувствие со всеми его явлениями приготовит переворот в науке и предохранит нас от соблазна западной и готовой науки. Зная по опыту, что это так, я прошу тебя принять совет: каковы бы ни были твои занятия, не удаляйся от среды, в которой ты поставлен, и посвящай на изучение ее часть твоих занятий. Читай Отцов Православной церкви, читай не бегло, не наскоро, а с расстановкою и размышлением, читай русские летописи, издание Археографической комиссии. Не спеши судить, выводить заключения и строить системы, а старайся понять и пробудить в себе тот дух жизни19, который веет в нашей древней истории и который сохранил в себе наш простой народ. Это сочувствие всей души важнее и плодотворнее рационального развития мысли» (III, 435–436).

Москва, вид с колокольни Ивана Великого к юго-востоку, на Садовники и Котельники. Фотография 1850–1860-е гг.
Эти размышления созвучны суждениям А. С. Хомякова об «истинном просвещении», которое «есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе»20; И. В. Киреевского — о «просвещении не блестящем, но глубоком; не роскошном, не материальном <...>, но внутреннем, духовном»21; Н. В. Гоголя, сказавшего, что «просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь»22. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» автор напоминает, что слово «просвещение» «взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и тро-есвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском, и человеческом, всех ими освещает, произнося: „Свет Христов освещает всех!“ Недаром также и в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: „Свет просвещенья!“ и ничего к ним не прибавляется больше»23.
«Просвещение» и «Свет Христов» — в славянофильском контексте — рядоположенные понятия. Самарин, кроме того, вопрос о «просвещении» (правда, уже после кончины ранних славянофилов, но продолжая их размышления) помещает в контекст «цивилизации», с одной стороны, усложняя рассмотрение вопроса (в силу того, что тот мыслится уже не отвлеченно, а с учетом исторического контекста, конкретных форм исторической жизни), с другой — поддерживая и еще более укореняя в национальном сознании то понятие просвещения, которое восходит к христианскому вероучению и утверждается деятелями славянофильского круга. В статье «По поводу мнения „Русского вестника“ о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к цивилизации» (опубл. в 1863 г.) замечает, что все, говорившие до сих пор о русской цивилизации по отношению к западной, различали «степень развития цивилизации, ее возраст», различали цивилизацию «наносную, заемную» и цивилизацию «как органический и своеобразный продукт народной жизни» (I, 336), но это Самарину представляется уже недостаточным. Полагая, что понятие цивилизации «одно из самых неопределенных и сбивчивых» (I, 337), он размышляет и о роли философских идей в развитии цивилизационных процессов, и, одновременно, о роли «народных начал», о которых иронически писал «Русский вестник», откликаясь на статью Н. Н. Страхова24. Самарин подвергает критике формы жизни, выработанные западной цивилизацией: «...Конституционная форма и ее теория, обошедшая кругом Западную Европу, эта форма, в которой современная наука видит высшее проявление государственного развития и решительный признак политической цивилизации, — есть явная ложь» (I, 344) — и противопоставляет некой якобы единой западной форме особость русского развития: «Россия имеет оригинальный, ей одной свойственный ритм развития, какой-то тип, призванный к удовлетворению всех потребностей человеческих; а над славянофилами глумятся именно за то, что они стараются выразуметь этот тип и попасть в этот ритм» (I, 345).
«Давно и искренно желали мы выразуметь, — продолжает Самарин, — что именно подразумевается под словом цивилизация , так недавно вошедшим у нас в моду, так часто повторяемым и почти совершенно вытеснившим из употребления слово просвещение . По-видимому, они выражают одно и то же <...>. Но если мы отбросили одно слово, притом слово коренное русское и, по замечанию Гоголя, не переводимое ни на какой европейский язык, если мы единодушно, не сговариваясь, усвоили себе для того же употребления другое, то надобно предполагать, что это произошло недаром» (I, 348). При этом пафос размышлений Самарина не сводится к утверждению приоритетности русского понимания просвещения. Ему хочется, чтобы и русский человек приобрел привычку «углубляться в вопросы и основательно изучать предмет», а не оставался «при одном смутном представлении о цивилизации» (I, 352).
Потому и в 1840–1850-е гг. сознание Самарина подчас раздваивалось. Уже приводились некоторые его суждения, в которых констатировалось, что славянофилами в отечественной истории и культуре многое «угадано», а не исследовано дотошно. Сам Самарин вкладывает в это рассуждение, прежде всего, критический, почти негативный смысл. Но вместе с тем, для славянофилов (в том числе и для Самарина) «угадать», интуитивно почувствовать, познать Русь, Россию эмоционально-духовно, — не менее важно, чем детально изучить. Здесь предполагается, в сущности, особая методология познания, применимая и необходимая именно для русского мира. Подобное познание (сочувствие — родство — идентичность ума и чувства) — вовсе не нужно западной науке (во всяком случае, не первостепенно), несколько наивно для нее. В понимании западников, нам нужно дозреть до истинной науки, взрослого мышления, системного анализа. То есть предлагается эволюционная горизонталь. Славянофилы не столько тяготеют именно к вертикали, сколько догадываются, допускают, что самопознание русское и западное размещаются на разных уровнях, не регламентируемых иерархическим мышлением.
Но если говорить о научном системном познании, а также о «деле», которое должно приносить конкретные плоды, то оказывается, что для оценки результативности славянофильской деятельности безупречного критерия нет. Служить / не служить, взаимодействовать с правительством / быть в оппозиции к нему — это возможные вопросы для обсуждения, для жарких споров в гостиных или в письмах, но не предмет для голосования, принятия конкретных решений. Действительно, обнаруживается другой тип споров, мышления, в какой-то мере угаданный в «Русских ночах» В. Ф. Одоевского. Русские ночи уходят на бесконечные разговоры, обсуждение каких-то манускриптов, чужих трудов, теорий — но в конечном итоге теории, выработанные логическим умом, оказываются подвергнуты умом глубоким и чувствующим некоему испытанию, исторической и этической проверке.
Вспомним слова Самарина: «Призвание наше совсем иного рода...». Наше призвание предполагало совпадение национального культурно-исторического кода и личного самосознания и самоосуществления. Знаменательно суждение К. Аксакова, высказанное в письме к брату, Григорию, в 1849 г.: «Погрузимся в глубину русского духа; мы найдем там неоцененные сокровища, до которых никогда нельзя достигнуть путем насильственных переворотов. Наш путь — есть путь мира, путь внутреннего, нравственного, духовного убеждения»25.
Самарина и Аксакова многое и сближало, и разъединяло. Разногласия имели личностно-психологический характер и были обусловлены, прежде всего, как полагал Самарин, неспособностью друга почувствовать интерес к чужому мнению и проявить снисходительность. В самаринских текстах не раз появляется понятие «другой», и он полагает, что в словаре Аксакова это почти синоним «чужого». «Или ты принадлежишь в числу тех людей, истинно несчастных, — недоуменно и с сожалением вопрошал Самарин, — которые не могут увериться в человеке раз навсегда или, по крайней мере, надолго и для которых другой, как бы близок он ни был, составляет вечный, никогда не разрешающийся вопрос?..» (III, 262). Упреки Аксакову во многом справедливы, но создается впечатление, что Самарин не хочет понять природу аксаковской категоричности. Где граница, отделяющая нетерпимость от строгости, цельности взгляда?
В уже упоминаемом письме к Аксакову из Петербурга от 19–20 июля 1846 г. Самарин цитирует фрагмент из послания своего корреспондента: «...Пусть частная польза приносится тобою, но никакой план, более общий, никакая мысль правительственная не должна и не может нами поддерживаться; ты не должен приносить туда своего участия» и комментирует: «Что это значит? То ли, что правительство не может выдумать ничего полезного, или, что хотя бы оно вздумало осуществить дело полезное, его поддерживать не должно? Первое кажется мне нелепым; второе есть чисто условная opposition systematique [постоянная оппозиция], которая едва ли вытекает из живого воззрения на жизнь» (III, 276–277). Живому воззрению на жизнь, по Самарину, противоречит и сама петербургская действительность, и боязнь как-то к ней прикоснуться.
Самарин пространно и убедительно рассуждает о том, что для него (в отличие от Аксакова) неважно, благодаря чьим усилиям будут происходить благотворные перемены: ослабление цензуры, предоставление крестьянам права собственности или права выкупа, уничтожение привилегии дворян. «...Какое мне дело до того, что именно имел в виду тот человек или правительство, которое предложило и осуществило эту меру? <...> а мера все-таки сама по себе хороша: жизнь народная потечет в открытое русло; всякая льгота, всякое дарованное право свободного движения принесет благие непредвиденные последствия, а своекорыстная цель лица пропадет и забудется <...>. Правительство не творит жизни, но оно может подавлять ее сознательно или бессознательно, может также содействовать ее развитию» (III, 277–278).
По Аксакову же, полагает Самарин, любая служебная деятельность «является запечатанною смертным, неисцелимым грехом» (III, 278), но «пора Страшного суда, — замечает Самарин, — когда разделятся избранные и отверженные, уже выходит из пределов нашей действительности», и, непосредственно обращаясь к Аксакову, он заключает: «Говоря языком богословским, ты стесняешь Церковь невидимую до пределов Церкви видимой» (III, 278–279). Но Аксакову, действительно, хотелось бы основы Церкви невидимой видеть воплощаемыми в действительной жизни. Самарин же, упрекая друга в том, что тот слишком жестко оценивает некоторые явления современности, сам переводит разговор в плоскость общественной и государственной жизни, словно не замечая важного для Аксакова строго духовного критерия: «Признав несовместимость и противоположность двух начал, выражающихся в распадении общества, в антагонизме Петербурга и Москвы, ты хочешь всю современную действительность размежевать на две стороны, провести между ними резкую черту и заклеймить их внешними признаками. Такими внешними приметами являются: платье, место жительства, в настоящем же случае служебные занятия. Отсюда — вся твоя терминология: должно стоять на противоположной стороне, не соприкасаться с тем, что считаем гнилым , и пр., и пр.» (III, 278). Но далее он советует подумать Аксакову о том, что «возвещать мысль» можно по-разному: можно — «словом, делом, примером, можно возвещать ее безотчетно, без цели, для облегчения сердца, в порыве лирического восторга или негодования, но можно высказывать ее также с целью чисто христианскою, с желанием обратить или наставить других, с потребностью участия в слушателях» (III, 279).
В одном из писем Самарин называл условие их согласия: «...Как бы мы ни расходились теперь, мы непременно сойдемся, когда ты признаешь возможность другого человека с тем же направлением, с теми же убеждениями, как и ты», и добавлял совсем уж примирительно: «В заключение скажу тебе одно: я, со своей стороны, никогда не разойдусь с тобой» (III, 252). Он долго хотел, чтобы друг изменился, а в начале 1850-х написал: «Признаюсь, я душевно буду рад, если ты не изменился. Мне хочется найти тебя таким вполне, каким я тебя оставил» (III, 306). Можно сказать так: хоть один неизменен в этом изменчивом мире...
Кажется, Самарин, не отказываясь от своих позиций, кое-что готов был в них уточнить. В 1850 г., признавая правоту А. С. Хомякова, охарактеризовавшего «современный недуг» как «упование на вещественные силы», писал ему: «Практический вывод из всего мною виденного и слышанного заключается в том, что ничего более не остается делать, как напоминать беспрестанно, елико то возможно, о духовном начале, и если, наконец, отнята будет всякая возможность говорить о нем, то унести его с собою в тишину частного, домашнего быта. Служебная деятельность как цель потеряла для меня всякое значение, но я не отвергаю ее как побочное средство. Я испытал, что служебное положение человека может при случае быть полезно как подмостки, с которых яснее и дальше доходит слово» (III, 409).
Любопытно, что и в самаринском контексте появляется словечко «свои» как антитеза чужому. Когда Константин Аксаков, надеявшийся в 1852 г. создать семью, получил от Софьи Бестужевой отказ, Самарин с сочувствием отозвался на это известие: «Это — утрата в полном смысле, но das Leben ist Entsagung26 — сказал где-то Гете, и эти слова меня поразили, когда я был еще очень молод»; при этом признал, что его радует возможность поддерживать с Аксаковым прежние отношения: «Конечно, никто искреннее, живее меня не желал для тебя того, что составляет верх земного счастия; но с моей стороны это желание тоже было Entsagung. Наши отношения непременно бы изменились, и я помышлял об этом с грустью. Теперь мы опять свои и, вероятно, навсегда, по крайней мере, так с моей стороны. Посмотри, как теперь закипит у тебя работа. Ты сделаешь много хорошего» (III, 310). А в 1860 г., фактически за два месяца до кончины К. Аксакова, писал ему: «...Я должен сказать, что я много раз, к удивлению моему, имел случай удостовериться, что мысль московского кружка проникла гораздо дальше и гораздо глубже, чем я воображал <...>. Да, любезный друг, я почти уверен, что многие твои несбыточные мечтания скоро оправдаются, и, может быть, я к тебе приду с повинною головою и посрамленною мудростью. Пора наша только что наступает. Сколько дела впереди! Береги свои силы и запасайся здоровьем» (III, 313, 314).
Зачем был дан Самарину Константин Аксаков? — поставим странный вопрос. Различий, кажется, больше, чем общности: Самарин — аналитик, диалектик и при этом, как подметил еще П. А. Чаадаев, человек, в котором «сердце ни в чем не уступает уму»27; Аксаков являет «исключительность», которую не считал нужным преодолевать.
«Зачем он дан был миру, — писал Гоголь о Пушкине, — и что доказал собою?» «Пушкин дан был миру на то, — продолжал автор «Выбранных мест», — чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше...»28.
Зачем был дан миру и России Аксаков? Чтобы явить, что есть славянофил в его предельном, бескомпромиссном выражении. «Мне кажется, — писал он Самарину, — жизнь человека должна быть нравственное дело, нравственный путь, который во всех точках соприкосновения своего должен быть себе строго и добросовестно верен»29.
А зачем был дан русской мысли Самарин? Чтобы показать, что славянофил как историко-культурный тип не умещается в аксаковские пределы.
Аксакову важно было уловить и сформулировать принцип внутреннего бытия, побуждения, стремления, идеала. Самарину — трезво оценивать общественную коллизию, исходить из нее и анализировать ее влияние на личность. Каждый являл свою половину истины...
Одно из писем к Н. А. Милютину (1859) Самарин закончил цитатой из стихотворения А. С. Хомякова «Труженик» (1858). Он привел лишь последнее четверостишие, но, завершая данную статью, позволю себе процитировать целиком вторую часть стихотворения, в котором «пахарь терпеливый», испытывая утомление от бесплодного, как ему кажется, труда, жаждет отдохновения, но слышит свыше укор и отзывается на него:
«Безумец, нет тебе покоя,
Нет отдыха: вперед, вперед!
Взгляни на ниву; пашни много, А дня не много впереди.
Вставай же, раб ленивый Бога!
Господь велит: иди, иди!
Ты куплен дорогой ценою;
Крестом и кровью куплен ты;
Сгибайся ж пахарь, над браздою:
Борись, борец, до поздней тьмы!»
Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом;
А Ты безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!
Иду свершить в труде и поте
Удел, назначенный Тобой;
И не сомкну очей в дремоте, И не ослабну пред борьбой. Не брошу плуга, раб ленивый, Не отойду я от него, Покуда не прорежу нивы, Господь, для сева Твоего30.
Список литературы "Цепь убеждений связала нас.. ": Юрий Самарин и Константин Аксаков
- Аксаков К. С. Воспоминание студентства 1832-1835 гг. // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников / Под ред. И. А Федосова. М., 1989. С. 213-334.
- Аксаков К. С. Ты древней славою полна, или Неистовый москвич / Сост., автор вступ. статьи, путеводителя и комментариев Е. Ю. Филькина. М., 2014.
- Аксаков К. С. Сочинения. T.I / Ред. и примечания Е. А. Ляцкого. Пг., 1915.
- Анненкова Е. И. Лермонтов в рецепции славянофилов // Мир Лермонтова: Коллективная монография / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб., 2015. С. 620-634.
- Анненкова Е. И. «Петровский переворот», Петербург и русская литература в концепции К. С. Аксакова // Печать и слово Санкт-Петербурга. Петербургские чтения — 2015. Ч. 2. Литературоведение. Лингвистика. СПб., 2016. С. 55-64).
- Антонов К. М. Идея догматического развития в полемике славянофилов начала 1840-х годов // Хомяковские чтения. Вып. 1. Тула, 2018. С. 21-27.
- Антонов К. М. Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект. М., 2006.
- Батшев М. В., Медведева Т. В. Аксаковы и Свербеевы. Страницы переписки двух семей (1840-1860-е) // Музей-заповедник «Абрамцево». Материалы и исследования. 2015/12. Абрамцево в истории и культуре России. Абрамцево, 2015. С. 30.
- Гершензон М. О. Учение о природе сознания (Ю. Ф. Самарин) // Гершензон М. О. Избранное. Т. 3. Образы прошлого. М.; Иерусалим, 2000. С. 447-47
- Гоголь Н.В. Нужно любить Россию. О вере и Государстве Российском / Изд. подготовил В. А. Воропаев. М., 2007.
- Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14т. Т/УШ.Б. м., 1952.
- Греков В.Н. На пути времен. Эстетика познания в философских диалогах славянофилов. М., 2019.
- Ефимова М. Т. Юрий Самарин в его отношении к Лермонтову // Пушкинский сборник. Псков, 1968. С. 40-47.
- Ефимова М. Т. Ю. Самарин о Гоголе // Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 434. Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 135-147.
- Захаров Э.В. Ф. И. Тютчев и Ю.Ф. Самарин. Автореферат дисс. на соискание учен степени канд. филол. наук. М., 2000.
- Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Т. I. Ч. 2. Л., 1991.
- ПоповА.Н. Формирование славянофильских воззрений Ю.Ф.Самарина в 18401844 гг. // Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом. М., 2013. С. 193-209.
- Самарин Ю. Ф. Собрание сочинений: в 5 т. Т. I, III. СПб., 2013-2016.
- Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. VI. М., 1887.
- Скороходова С. И. Философия истории Ю. Ф. Самарина в контексте русской философской мысли XIX — первой четверти XX веков. М., 2013.
- ТамаевП.М. «Жизнь духа и дух жизни» в поэзии А.С.Хомякова 1850-х годов // А. С. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист. Т. II. М., 2007. С. 324-333.
- ТесляА.А. Славянофильство как дружеский круг // Дружеский круг как начало соборности и солидарности в России. Материалы международной конференции. М., 2019. С. 43-64.
- Хомяков А. С. Стихотворения и драмы / Вступ. статья, подготовка текста и прим. Б. Ф. Егорова. Л., 1969.
- Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки М., 1988.
- Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия». Русское внеакадемическое богословие XIX века. М., 2016.
- Цимбаева Е. Н. Становление идей раннего славянофильства (На материале переписки Ю. Ф. Самарина 1840-х гг.) // Хомяковские чтения. Вып. 1. Тула, 2018.