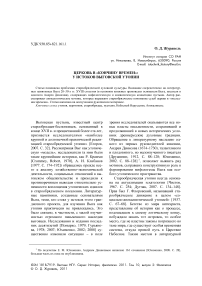Церковь в «кончину времен»: у истоков выговской утопии
Автор: Журавель Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам старообрядческой духовной культуры. Внимание сосредоточено на литературных памятниках Выга 20-30-х гг. XVIII столетия (в основном книжных проповедях основателя Выга, писателя и идеолога Андрея Денисова), содержащих мифологическую и символическую концепцию пустыни. Автор рассматривает апокалиптические мотивы, которые выражают старообрядческое понимание судеб церкви в «последние времена». Статья написана на неизученном рукописном материале.
Утопия, иеротопия, старообрядцы, пустыня, небесный иерусалим, апокалипсис
Короткий адрес: https://sciup.org/14737432
IDR: 14737432 | УДК: 930.85+821.161.1
Текст научной статьи Церковь в «кончину времен»: у истоков выговской утопии
Выговская пустынь, известный центр старообрядцев-беспоповцев, основанный в конце XVII в. и процветавший более ста лет, признается исследователями «наиболее крупной и долговечной практической реализацией старообрядческой утопии» [Егоров, 2007. С. 32]. Рассматривая Выг как утопическую «модель», исследователи (а ими были такие крупнейшие историки, как Р. Крамми [Crummey, Robert, 1970], А. И. Клибанов [1977. С. 174–192]) обращались прежде всего к анализу хозяйственно-экономической деятельности, социальных отношений в вы-говском общежительстве и приходили к противоречивым выводам относительно успешности воплощения утопических идеалов в старообрядческом поселении. Литературные памятники, созданные основателями Выга, теми, кто стоял у истоков этого грандиозного проекта, для изучения Выга как утопии практически не привлекались. Это было связано, в частности, с малой изученностью огромного письменного наследия выговцев. Исследования и издания последних десятилетий [Понырко, 1979; Гурьянова, 1978; 2007; Юхименко, 2002; 2008] существенно изменили ситуацию – в поле зрения исследователей оказываются все новые пласты письменности, сохранившей и продолжившей в новых исторических условиях древнерусские духовные традиции. Обращение к литературному наследию одного из первых руководителей киновии, Андрея Денисова (1674–1730), талантливого и плодовитого, но малоизученного писателя [Дружинин, 1912. С. 88–128; Юхименко, 2002. С. 88–128] 1, позволяет выявить ряд мотивов, сыгравших конструктивную роль в формировании мифологемы Выга как особого утопического пространства.
Старообрядческая утопия всегда основана на актуализации эсхатологии [Чистов, 1967. С. 254; Дутчак, 2007. С. 134–148]. Прав был Г. Флоровский, называвший старообрядческое движение в целом «социально-апокалиптической утопией» [1937. С. 67–68]. Бегство из мира антихриста, представление об истории как о процессе, подошедшем к своему логическому концу, побуждало искать тот островок, то особое место, где не властны законы погрязшего во тьме мира, где существует особая временная система, откуда прямой путь в Царствие Небесное. Таким местом в литературной интерпретации ее основателя оказывается Выговская пустынь 2.
Важное значение для формирования образа Выга, для понимания миссии пустынножительства в «последние времена» имеют эсхатологические взгляды Андрея Денисова, прямо выраженные в ряде его догматических сочинений («Об антихристе», «На книжицу Стефана, митрополита Рязанского», «О Гогу и Магогу» [Дружинин,1912. С. 92–93, № 8; с. 94–95, № 16; с. 95, № 17]) и бывшие уже предметом научного исследования. Как доказала Н. С. Гурьянова [1988. С. 17–32; 2007. С. 205–207], знаменитый основатель Выга следовал теории духовного антихриста с элементами «чувственного», принятой на новгородском старообрядческом соборе 1694 г. [Смирнов, 1898. С. 041]. По мнению сторонников этой теории, антихрист «духовно» уже воцарился в мире и история вступила в последнюю стадию. Теория духовного антихриста несколько ослабляла трагизм «эсхатологической догадки» (выражение Г. Флоровского) ранних расколоучителей, но не снижала важности проблемы спасения. Старообрядческая со-териология, в христианстве неразрывно связанная с экклезиологией, требовала пересмотра проблемы спасения в лоне церкви, как и самого вопроса о церкви. Андрей Денисов настойчиво обращается к новозаветному пониманию церкви как Невесты Христовой 3, как мистического Тела Христа, единства верующих и верных. Церковь земная в эпоху конца времен оказывается у него гонимой и бегствующей, временной ипостасью Церкви Торжествующей – Небесного Иерусалима. Метафорой этих ликов церкви оказывается пустынь, причем акцент в своих сочинениях Андрей Денисов ставит не на Выге как географическом понятии, а на идеализированном образе пустыни и пустынножительства. Именно на обитателей Выга, увиденных в свете утопического идеала, переносятся качества, исконно закрепленные за тем, что есть Церковь.
Необходимо отметить , что пониманию теории духовного антихриста в рамках вы - говской риторической литературной школы в немалой степени способствовала барочная герменевтика . Ей выговские книжники обу чались по европейским риторикам [ Поныр - ко , 1981], возрождавшим теорию « четырех смыслов » Священного Писания 4. Глава « О четверогубом разуме Святого Писма », основанная на фрагментах нескольких рито - рик , составила отдельный раздел оригиналь ной Риторики - свода , написанной самими выговскими старообрядцами 5. Преимуще ственное внимание в этих сочинениях уде лялось « сенсу аллегоричному », что вполне соответствовало эстетическим вкусам эпохи начала XVIII в ., пристрастию к символам , аллегориям , эмблемам во всех сферах жиз ни . Как и в раннехристианской александ рийской экзегетической традиции , « подход к событию , совершающемуся во времени , как к иносказанию о смысле , пребывающем вне времени » [ Аверинцев , 1997. С . 101], по могал сопрягать явления разных уровней , прочитывать события в эсхатологическом ключе , находить символические эквивален ты событиям земной истории .
Обостренный эсхатологизм обусловил пристальный интерес к проблеме времени, к текущему моменту. Одним из ключевых слов проповедей Андрея Денисова становится слово «век». Он не только «последний», но и «бурливый и сварливый», «век, тернием греховным и страстным» исполненный, «век, острым и непреходным каме-нием злых нравов, вражд, клевет, гонений, ратей преумноженный» 6. Это последний отрезок времени перед концом времен и он сравнивается с пустыней «дикой и терновитой», «каменистой, безводней и неутешней» 7. Ощущение того, что история прихо- дит к своей завершающей фазе, заставляет с особенной чуткостью воспринимать скоротечность земной жизни. Барочная стилистика, реализующая эту древнюю библейскую тему в новых эстетических категориях, находит место и в Андрея Денисова и его брата Семена. Однако в их философских сочинениях, специально посвященных проблеме времени, тон задают тематические ключи, взятые из новозаветной эсхатологии. Слова апостола Павла становятся смысловым итогом «Слова о времени» Андрея Денисова, играя роль своеобразного вывода, заменяя этикетную концовку: «А о летех и о време-нех, братие, не требе есть вам писати, сами бо весте, яко день Господень, яко же тать в нощи, тако грядет...» 8. Его брат Семен свое сочинение о времени предваряет темой («фемой») из послания апостола Павла «Время уже коротко» («Яко время прекращено есть прочее») 9.
Для интерпретации Выга как места по следнего спасения Андреем Денисовым и его учениками и последователями оказались востребованы апокалиптические образы , хорошо известные в истории русской пуб лицистики и общественной мысли XVI– XVII вв . Так , весьма продуктивным оказы вается сюжет из Откровения св . Иоанна Бо гослова о Жене , облеченной в солнце , преследуемой драконом и убегающей в пус тыню ( Откр . 12: 1–17) 10.
Данный сюжет использован, хотя и не является центральным, в цикле сочинений, утверждающих концепцию «Москва – третий Рим». В Послании Филофея М. Г. Ми- сюрю Мунехину этот текст цитируется в контексте темы Церкви [Синицына, 1998. С. 345, 352–355]. Сочинение «Об обидах Церкви» 11 включает подробное истолкование символов 12 Главы Откровения применительно к Церкви, а его Краткая редакция построена исключительно на экзегезе этой главы. Россия в интерпретации сторонников теории «Москва – третий Рим» предстает как конечный этап бегства Жены-Церкви, как место упокоения и пребывания в славе: «И едина нынh святаа съборнаа апостолская Церковь въсточнаа паче солнца въ всеи поднебеснhи свhтится» [Там же. С. 367].
Образ апокалиптической Жены обретает актуальность и в полемическом богословии первой половине XVII в . [ Опарина . С . 90– 91], когда концепция « Москвы – третьего Рима », основанная на идее симфонии царст ва и священства , оттесняется теорией пре емственности русской Церкви по отноше нию к Сиону , концепцией « Москва – новый Израиль ». В рамках этой теории Москва как центр православия отождествлялась с « гор ним Иерусалимом », а Россия трактовалась как Царствие Божие на земле . Впоследст вии , как известно , Никон будет отвергать теорию « Москва – третий Рим », созданную в первой половине XVI века , настойчиво утверждая идею Москвы – нового Израиля [ Опарина , 1998. С . 283]. Сюжет из 12 главы Откровения в той же интерпретации ис пользовался и в антилатинской церковной литературе в конце XVII в ., в книге « Щит веры » [ Панич , 2001].
Изучение проблемы «Третий Рим и раскол» 12, как и рассмотрение связи русских богословских идей конфессиональной исключительности, возникших в XVII в., с построениями выговских старообрядцев не входит в задачи нашей статьи 13. Непосред- ственным источником образа Жены, облеченной в солнце, в текстах Андрея Денисова, скорее всего, был текст, вошедший в число важнейших старообрядческих книжных авторитетов – Толковый Апокалипсис св. Андрея Кесарийского: «Жену же, одеян-ну в солнце, неции убо отнюд Пресвятую Богородицу разумеша... Великий же Мефодий на святую церковь истолкова» 14. Речь здесь идет не о Псевдо-Мефодии Патар-ском 15, а о св. Мефодии Ликийском (Олимп-ском), предвизантийском писателе III в. Так, в его сочинении «Пир десяти дев, или о девстве» в гл. V читаем: «Жена, рождающая при враждебном драконе, есть церковь, ея священнослужение и благодать»; «явившаяся на небе Жена, облеченная в Солнце... – это в собственном и точном смысле есть Мать наша, девы, некоторая сила, сама по себе отличная от детей своих, которую пророки ввиду приписываемых ей свойств называли то Иерусалимом, то Невестою, то горою Сиона, то Храмом и скинию Божиею» [Св. Мефодий..., 1877]. Нам не известно, знал ли Андрей Денисов сочинения св. Мефодия так же хорошо, как старообрядческий наставник часовенных XX в. отец Симеон, который точно цитировал в одном из своих сочинений названный уже текст св. Мефодия 16, но Толковый Апокалипсис безусловно был ему известен 17. Толкование апокалиптического образа жены в качестве Церкви, со ссылкой на св. Мефодия, было закреплено в не менее авторитетной для староверов Книге о вере 18. Таким образом, тема гонимой старообрядческой церкви в интерпретации Андрея Денисова встраивается в авторитетный ряд экзегетической традиции.
Выговский писатель создает собственную изоляционистскую концепцию, обращаясь к тому же арсеналу образных средств, что и ранее использовали идейные лидеры «никонианской» церкви. При этом он не ограничивается цитированием текста из Библии и его истолкованием, как в текстах теории «Москва – третий Рим». Библейская символика узнается во множестве цитат и аллюзий, в оригинальных авторских метафорах, ярко иллюстрирующих ту или иную мысль проповедника. Андрей Денисов свободно контаминирует элементы библейского сюжета, создавая всякий раз новый вариант образа. Образ Жены-истинной веры и Церкви как единства верующих используется в «Слове о вере» [Дружинин, 1912. С. 113–114, № 104], сочинении, весьма популярном у староверов, своеобразном проповедническом аналоге «Поморских ответов». В эпоху «новин» и ересей она «не терпитъ в таких свhтлыхъ храмhхъ жити досаждаема, но... с бhгающими богораднh бhгает, со странствующими Бога ради страньствует, в скровных домhх страха ради гонителей скрывается, в ненаселенныхъ мhстhхъ пустыхъ поселяема бываетъ (по объявлению тайнозрителнаго Богослова, видhвша солнцеоблеченную Жену, бhжащу в пустыню, и змия, гоняща за нею)» 19. Гонимая вера здесь прямо изображается как реализация апокалиптического символа. Далее автор приводит многочисленный ряд исторических аналогий – примеры бегства от змия-антихриста святых-мучеников за веру: «тако в нужду по случаю кромh свя-щенниковъ, кроме видимых церквей, кромh литоргии, тако с Феклою равноапостольною в страдании и в пустыни, сице с Галактионом и Епистимиею, в мирh и в пустыни, и в страдании, сице со инhми многшими святыми, в Писании повhдаемыми, тако с Павлом Фивейским, от гонения скрывшимся в пустыню, его же душю виде великий Антоний, на небо со многою славою возносиму, тако в прообразователномъ Новому, в Вет-хомъ Законh выну вhра со святыми в нужных случаех бh, сице со Иосифом во Египтh, и со Ионою во чреве китове, с Ма-насиею в волh мhдянh, с плhнеными изра-ильтяны в Вавилонh, кроме жертв, кроме видимых церквей...» 20. В реализации сюжета о бегстве Жены-Церкви автор подчеркивает мотивы, актуальные для староверов, не признавших иерархию официальной церкви. Подчеркивая трагизм существования веры «без видимых церквей», автор подкрепляет правоту гонимой церкви авторитетными свидетельствами Священной истории.
В описании судеб церкви в « последние времена » Андрей Денисов достаточно пол но воспроизводит сюжетную схему 12- й главы Откровения , вписывая ее при этом в контекст христианской истории и соединяя христологический и апокалиптический сю жеты : « Понеже благоизволи всесвятhйший пресвhтлhйшия Невhсты Жених Христос плоти пожитием на земли пострадати за на ше спасение , многая гонения , хуления и клеветания , наконец , крестную смерть , сице и солнцеодhянная Невhста , его святая Церкви , послhдуя возлюбленному своему Жениху ради получения вhчныя свhтлости в маловременных вhка сего , проназначена в страданиих и в терпhниих быти , а наипаче в кончину временъ , егда , по Священному Пи санию , умножатся зловhрнии , умаляться же правовернии , яже богозрителныи тайнозри - тель во Апокалипсии безмерныя тоя скорби объявил , иже кровоядный чермный змий не престаше ю гнати , в которых ея скорбhхъ свыше помощию даны крилh орла великаго , на них же да лhтит в пустыню , аще и тамо испущает рhку , злотекущих вражду , клеве ту , волнений различныхъ , да ю в рецh пото - питъ , но не оставляет Божий промыслъ Невhстh своей возлюбленной с вожделен ными тоя чады потопленной быти » 21. Об ращает на себя внимание не только свобод ное обращение с текстом Писания , но и синтез библейского источника и его , хотя и авторитетного , истолкования , в результате чего создается совершенно новый , претен дующий на истинность , текст .
В послании брату Семену, находившемуся в то время в заключении в новгородской тюрьме, Андрей пишет: «приими кровавыя раны на тлhннhмъ тhлh своемъ нынh за свою честную и святую Матерь, родившую тя и воспитавшую… аще и распуженную нынh и разоренную и бhгающую, но обаче честную и пресвhтлую Невhсту Царя Не-беснаго, вhчно с нимъ царствовати имущу со своими чады. Аще и нынh гонима зми-емъ и того отроды, аще и кровию своих возлюбленных чад обливается, болhзнуетъ лютh, но вскорh темныхъ сихъ ратникъ помраченная година разорится и область их престанетъ и возсияетъ бесконечное царство безсмертнаго Царя, в нем же прославится и возвеселится со своими чады гонимая нынh Мати наша, Небеснаго Царя пречистая Не-вhста» [Юхименко, 2008. Т. 1. С. 136–137]. Образ Жены, гонимой змием, наделяется чертами матери и служит для утешения одного из сыновей, оказавшихся вдали от обители.
Яркий персонифицированный образ Церкви - матери , « претружденной и дивной , старостию благородною цветущей », создан в « Слове плачевне о злостраданиих и скор - бех Церкве Христовы » [ Журавель , 2006]. В ее монологах - плачах , обращенных к не коему « путнику » ( в нем узнается автор ), критикуются и « внешние » враги истинной веры , и дети Церкви - матери , не всегда отве чающие идеалам пустынножительства . Же на в этом сочинении , как это встречается и в других текстах Андрея Денисова , – одно временно и Невеста Христа и Жена , обле ченная в солнце . Сюжетная основа произве дения обнаруживает сходство со « Словом о нынешнем окаянном вецh » Максима Грека [ Журова , 2008. С . 216–232], где речь идет о встрече и беседе некоего путника с Женой , символизирующей истину , исчезнувшую из мира .
В названном Слове Андрея Денисова ак центирована и еще одна ипостась Церкви . Бегствующая , гонимая Церковь является в то же время Церковью торжествующей , Сионом , Новым Иерусалимом . Этот смысл образа Жены - Матери высвечивается благо даря реминисцентному использованию 3- й Книги Ездры . Слово обнаруживает тексту альную общность с этим источником . Жена , явившаяся пророку Ездре , символизирует Сион , Небесный Иерусалим , и плачет по сыну – погибшему земному Иерусалиму . Церковь - Сион – образ , известный и по Сло ву о антихристе блаженного Ипполита 22.
Цитата из Слова Ипполита « Восплачются Церкви Божия плачем великим » также ис пользована в сочинении писателя - старо обрядца , играя в нем роль тематического ключа . В произведении Андрей Денисов цитирует и пророчество Исайи « Оставлена будет дщи Сионя , якоже сhнь в виноградh и якоже овощное хранилище в вертоградh , и яко град обстоимъ » ( Ис . 1: 8), истолкован ное в том же Слове Ипполита : « виждь про рока возлюбленне осияние , еже прежде колицех родов о времени предрече , не бо о июдеох сие слово пророчествова , ниже о Сионе граде , но о святей церкви , Сион бо церковь » 23.
Библейским подтекстом образа « жены » в сочинении Андрея Денисова объясняется и странное на первый взгляд обращение к плачущей как к « кокоши » ( курице - наседке ): « Воздвигни , благодатная , твоя крыла , мате - ролюбная кокош , обими многостраждущыя твоя птенцы внутрь священных законов , напитай нас от сосцу благодатных твоих учении , накорьмляй пищею безсмертною небесныя сладости » [ Журавель , 2006]. Эта метафора вновь адресует к теме Иерусали ма : « Иерусалиме , Иерусалиме , избивый пророки и камением побиваяй посланныя къ тебh , колькраты восхотhхъ собрати чада твоя , якоже собираетъ кокошъ птенцы своя под крилh , и не восхотhсте ; Се , оставляется вамъ домъ вашъ пустъ » ( Мф . 24:37–38).
Место последнего прибежища гонимой Жены-Церкви – пустыня. Этот элемент эсхатологического мифа оказывается семантически соотнесен с пустыней иной – местом монашеского уединения, пустынью, издавна понимаемой в свете утопии рая. «Пустыня сродни раю чистотой и святостью: именно к этому слову, как и к слову “рай”, прилагается очень редкий эпитет “прекрасный”» [Никитина, 1993. С. 118– 119]. Как и Святая Земля, пустыня монашеская мыслилась не только подобием рая, но и своеобразной зоной перехода из мира земного в Царствие Небесное, в вышний Иерусалим [Рождественская, 1994; 1998; 2003; Попович, 2009]. Пребывание даже живых еще насельников Выгореции одновременно и в пустыни, и в Царствии Небесном утверждается 24 следующими обращениями Андрея Денисова: «Вышняго Иерусалима гражданам, благоверным и богохранимым отцем...» 25; «Вышняго Иерусалима гражданом, земнаго красновидения устраненным, в черных дебрех живущим...» 26. Подобные обращения известны по средневековой монашеской литературе и уже были отмечены в связи с исследованием проблемы формирования сакральных пространств [Попович, 2009. С. 169], однако они не были элементом обыденного этикета даже при адресации высокопоставленным лицам. Так, автор Послания о Третьем Риме писал Московскому князю Василию Ивановичу об обретении «гражданства» Небесного только при определенных условиях: «Аще добре устроиши свое царство, будеши сын свhта и граженин вышняго Иерусалима» [Синицына, 1998. С. 360]. Выговские же насельники уже по признаку принадлежности к общежительст-ву обретают место в Царствии Небесном.
Выговская пустынь , какие бы тяжелые условия жизни не бывали в ней порой , пред ставляет собой место благодатное , своего рода проекцию рая . Андрей Денисов , ис пользуя прием метонимии , переносит свой ства этого сакрального пространства на его обитателей . Отблеск рая падает на тех , кто собственно и составляет Тело Христово : « воззри умныма очима на тыя , иже , мира отставльше , Христа возлюбиша ... иже цер ковным благочестием , яко свhт , сияют ; мо литвами и постом , яко миро , благоухаютъ , милостынею и любовию , яко цвhтникъ , цвhтят , смирением свhтят , яко христопод - ражателные овцы ; кротостию дышут , яко незлобивии агньцы ; чистотою адаматъству - ют , яко рай богонасажденный ( курсив здесь и далее наш . – О . Ж . )» [ Юхименко , 2008. С . 357]. Как известно , в топику рая входят такие присутствующие здесь мотивы , как неугасающий свет , благоухание , вечное цветение [ Рождественская , 1998].
Обращаясь к пустынножителям , Андрей Денисов часто называет их путешественни ками , странниками , путниками . Мотив не престанного пути – одна из составляющих темы пустынножительства в его интерпре тации . И путь их лежит из земной пустыни в Царствие Небесное . Отметим сразу , что мо тив пути очень важен и в литературе о па ломничестве на Святую Землю , где он также соотносится с темой приближения к раю [ Рождественская , 2003]. Как и в паломниче ской литературе , в сочинениях Денисова путь к раю сопряжен с опасностями , что ме тафорически выражено в описаниях сурово го дикого пейзажа . Так , странник из « Слова плачевна о злостраданиих и скорбех Церкви Христовы », направляясь к своей главной цели , к « Граду » ( Небесному Иерусалиму ), проходя « путь , тернием и острым камением постланный , путь , ратей и страстей изна - полненый , – отсюду змии зияюще , отонюду звери пожирающе , отъинуду разбойницы разбивающе , отсюду наветницы бесчиную - ще , идеже татие подкопывающе , идеже пле - нующии пленяюще и невнимающыя в тем ная адская жилища заносяще » [ Журавель , 2006. С . 210–211].
Мотивы пути, странствия, перехода из земной многотрудной жизни в Царствие Небесное присутствуют во многих сочинениях Андрея Денисова. «Вам глаголю, воином Царя царемъ… путешествующимъ… в пресвhтлhйшии матере градовомъ, во всекраснhйшую митрополию, во всеслад-чайшии небесныи Иерусалим, в вhчную утhху, в некончаемыи прохладъ, в клеврет-ство пресвhтлых аггелъ, в сосhдство все-красныхъ жителей небесныхъ» [Юхименко 2008. Т. 1. С. 132]. Далее при помощи стилистических приемов антитезы и параллелизма, используя выразительные реалистические детали при описании жизни в обители, автор акцентирует непосредственную связь двух пространств, земного и небесного, постоянный переход из мира дольнего в мир горний: «здh обнищавшимъ, тамо обогащающимся; здh смирившимся, тамо прославляющимся; здh служа-щимъ, тамо воцаряющимся…, здh в потh и слезах в путешествии трудящимся немощными и немощнhйшими тhлесми, постными, трудными, старыми и претруждеными составы, в молитвах, постех; идуще с крош-нями, секирами, с трудными прочими ору- дии, в поварнях, хлебнях, в блатах; страждуще от комаров, мшиц, прочих ядущих, от бесов же и человек ратующих… с таковымъ претруждением в святый град идущимъ, гдh онаго пресладкаго всрhтения и призвания сподобитися усердствующимъ…» [Там же. С. 132–133].
Именно вследствие открытости этого пе рехода , понимаемого как постоянный , ди намичный процесс , становится возможным и общение с умершими членами киновии , совершаемое в дни поминовения . Идея связи живых и умерших членов общежительства реализована уже в « Слове надгробном Петру Прокопьеву » Андрея Денисова 1719 г . [ Там же . С . 42–62], открывшем традицию выгов - ских надгробных слов . Произнося свое сло во , автор будто преодолевает завесу между временем и вечностью , вызывая образ жи вого Петра : « убо , всежалостная чада цер ковная , понеже любовными вашими пламы скорбите и желаете достойнаго желанию сего мужа зрhти же и беседовати с ним ; приидите нынh , отрем слезы от очию на шею и жалость от сердца нашего , и с повhстию сею походимъ с нимъ умныма очима …» [ Там же . С . 43]. Идея преодоления времени сопряжена в сочинении с эсхатоло гической темой : « сице раб Божии по седми - не настоящаго века к всесветлей будущаго века осмине отходит ». На фоне апокалипти ческой топики выстраивается и сама исто рия Выговской пустыни , у истоков кото рой – « пременение » света на тьму : « егда бо грех ради наших Никоном патриархом премена... уставов учинися и светлое свет - л ейших святых отец чиносодержание отла - гашеся … И тма тяжка гонителна покры тогда Росию …» [ Там же . С . 43–44]. Вспо миная о самых трудных временах Выга , Ан дрей Денисов и здесь обращается к сюжету о преследовании Жены - Церкви змием : « от самыя преисподния геены волны сия на ко рабль благовhрия гремhша и гремятъ и от самыхъ челюстей чермнаго змия бурливыя воды сия на церковное благочестие вос - клокташа » [ Там же . С . 52].
Главным условием спасения, перехода из времени в вечность, в рай становится уже само пребывание на священной земле Выга. Однако Выговская утопия предполагает и жесткий дисциплинарный устав, и личную заботу о спасении. Вера, молитва, труды, аскетический подвиг и прежде всего Девство (этот концепт, унаследованный от патри- стики, хорошо знаком по сочинениям вы-говских авторов) являются необходимыми требованиями. В сочинениях Андрея Денисова мы находим не только систематическое изложение составляющих «нравственного кодекса» выговцев, не только разъяснение, основанное на риторических выкладках, на неопровержимом логическом базисе, о необходимости соблюдать ту или иную запро-ведь, но и настойчиво проводимую мысль о том, что нельзя обмануть ожидания Отца, уже принявшего своих чад. Пустынножители, по мысли Андрея Денисова, уже прощены, уже приняты небесным Отцом. Словами пророка Ездры проповедник обращается к ним: «Слышите, возлюбленнии мои, – рече Господь, – се пред вами дни скорбни, и от всhх избавлю васъ. Не бойтеся, не сумняй-теся, яко Бог водитель вашъ есть. И иже воздержати заповеди и повелhния моя, – рече Господь Богъ, – да не отягчаютъ васъ грhхи ваши, ни воздвигнутся беззакония ваша» 27 (3 Езд. 16: 75–78). Все насельники Выга оказываются под защитой Господа, оберегающего их в мрачное время: «Сице убо и в кончину настоящего века при-своеннhйшия ему чрез правую вhру люди своя, во многоразличных злодыхателных от навождения чермнаго змия нападаниих и волнениих соблюдати и о их паче яко отец чадолюбивыи промышляти обhтовает не престати…» 28.
В творчестве Андрея Денисова происходит развитие библейской, в частности апокалиптической образности. Мотивы Апокалипсиса актуализируются, обретая новую жизнь в свете эсхатологических воззрений и способствуя формированию представлений об особой зоне спасения в страшные времена – Выговской пустыне как о Святой Земле. В более поздней традиции Выга тема пустыни – Небесного Иерусалима закрепляется и испытывает воздействие фольклорных представлений. Вот, например, какое описание Выга дает Феврония Семенова в «Слове надгробном о двою брату единоутробною»: «Есть же, ей есть таковое мhсто богоознаменанное <…> Холм или гора 29, от равныя земли мhрно взнявшаяся в высоту пhвговыми древесы, и березиемъ, бhло-зрачною свhтлостию облеченными, и зеле-нымъ листвиемъ одhянными, самовозраст-шими, яко насажденными, украшенная…» [Юхименко 2008. Т. 2. С. 169]. Пустыня как самонасажденный сад, как рай, где вечный свет и весна – такой предстает Выговская пустынь в идеализирующем восприятии автора плача. Отметим, что в выговской традиции обретают популярность духовные стихи о «прекрасной пустыне», продолжающие традиции древнерусских покаянных стихов, и в целом развитие представлений о пустыне испытывает существенное воздействие фольклора 30.