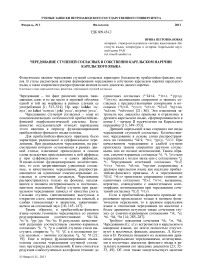Чередование ступеней согласных в собственно карельском наречии карельского языка
Автор: Новак Ирина Петровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Карельский язык, фонетика, чередование ступеней согласных
Короткий адрес: https://sciup.org/14749842
IDR: 14749842
Текст статьи Чередование ступеней согласных в собственно карельском наречии карельского языка
Чередование – это факт различия звуков, занимающих одно и то же место в звуковой оболочке одной и той же морфемы в разных случаях ее употребления [1; 513-514]. Пр. кар.: ku kk o ‘петух ’ , но ku k ot ‘ петухи ’ ; jo k i ‘река ’ , но jo v et ‘реки ’ .
Чередование ступеней согласных – одна из основополагающих особенностей прибалтийско-финской морфонологической системы. Большинство исследователей относят зарождение этого явления к периоду функционирования прибалтийско-финского языка-основы.
Для прибалтийско-финского праязыка было характерно радикальное и суффиксальное чередование. При радикальном чередовании, на рассмотрении которого остановимся в рамках данной статьи, изменение происходило в основе слова вследствие присоединения к ней аффикса, а при суффиксальном – в самих аффиксах. В языке-основе функционировали количественное, то есть затрагивающее удвоенные согласные, и качественное чередование, распространяющееся на одиночные смычно-взрывные согласные и сочетания согласных. Чередование распространялось только на фонемы, находящиеся в звонком интервокальном и постконсонантном положении. Выбор ступени при радикальном чередовании зависел от качества слога. Сильная ступень (неизмененная) выступала в открытом слоге, заканчивающемся на гласный, а слабая (измененная) в закрытом, заканчивающемся на согласный звук [16; 145–147].
Таким образом, в прибалтийско-финском языке-основе геминаты чередовались со своими редуцированными соответствиями: *kk:"kk, *tt:"tt, *pp:'pp, *tts:"tts. В результате качественной редукции соответствием смычно-взрывных согласных *k, *t, *p в слабой ступени стали выступать спиранты *y, *5, *в, а в положении после носовых - звонкие согласные *g, *d, *b [21; 19]. Еще в период функционирования языка-основы система чередования ступеней согласных претерпела ряд изменений. К ним относятся редукция слабоступенных аллофонов геминат до одиночных согласных (*"kk>k, *"tt>t, *"pp>p, *"tts>ts), ассимиляция спирантов и звонких согласных с предшествующими сонорными и носовыми (*Iy>11, *rY>rr, *r5>rr, *ld>ll, *ng>nn, *nd>nn, *mb>mm) [21; 86]. Эти изменения затронули все диалекты праязыка и отразились в древнем карельском языке, сформировавшемся в конце I – начале II тысячелетия на Карельском перешейке [13; 349–353].
Древний карельский язык сохранил все виды чередования ступеней согласных. Количественное чередование в основе слова распространялось на геминаты * kk:k, *tt:t, *pp:p , * сс:с. При качественном чередовании в слабой ступени произошла замена спирантов другими согласными или их полное исчезновение. Таким образом, смычно-взрывные согласные * k, *t, *p стали чередоваться с нулем звука или с согласными * j, *v . Чередования сочетаний согласных * lt:ll, *rt:rr, *nt:nn, *nk:nn, *mp:mm сохранились в древнем карельском языке как наследие прибалтийско-финского праязыка. А в чередованиях * lk:ll, *rk:rr произошло сокращение геминат до одиночных согласных * ll>l, *rr>r , вызванное, вероятно, совпадением с аналогичными алломорфами, возникавшими при чередовании сочетаний согласных * lt:ll, *rt:rr.
Если в прибалтийско-финском праязыке чередование происходило только в звонком фонетическом окружении, то в древнем карельском языке в отношения чередования по аналогии с более древними вступили также сочетания глухих со смычно-взрывными согласными * sk, *st, *tk, *hk , * ht [14; 285-287].
Требуют пояснения сочетания * tk, * st, *hk. Чередования tk:t, st:ss встречаются в карельском и ижорском языках, но почти полностью отсутствуют в восточных финских диалектах. Л. Кетту-нен и В. Руоппила называют их исконными древними карельскими чередованиями, исчезнувшими в восточных диалектах финского языка в результате влияния его западных диалектов [23; 32– 33, 49]. Об этом также свидетельствует наличие чередования в ижорском языке. В свою очередь, чередование hk:h встречается только в восточных говорах финского языка и ижорском языке, но отсутствует в большинстве диалектов карельского языка. Очевидно, данный вид чередования был характерен древнему карельскому языку, но исчез из восточных районов его распространения. Причиной могло послужить совпадение слабоступен-ных форм сочетаний hk и ht. Скорее всего, аналогичная причина повлияла на утрату чередования сочетанием *nk в том же регионе [18; 99–101].
В конце Средних веков древний карельский язык начал делиться на диалекты. Первым в XII веке от него ответвился ижорский праязык [22; 8–9]. Причиной дальнейшего деления послужили как влияние соседних языков, так и историческая ситуация, то есть военные конфликты между Россией и Швецией. Установление первой известной границы между государствами в 1323 году привело к делению корелы – единого этнического образования – на три группы: Новгородская Карелия, Шведская Карелия и Саво [7; 61]. На территории бытования двух последних в итоге сложились восточные диалекты финского языка, а карельский язык Новгородской Карелии стал основой современных карельских наречий.
Дальнейшие военные действия XVI–XVII веков привели к оттоку карельского населения с исторической территории. Поток беженцев хлынул на Олонецкий перешеек, где в итоге сформировались ливвиковское и людиковское наречия карельского языка [7; 61–67]. Разница между этими наречиями объясняется степенью сохранения вепсского субстрата. Людиковское наречие испытало большее влияние соседнего языка и полностью утратило качественное чередование ступеней согласных. Ливвиковское наречие его сохранило, утратив, однако, чередование смычно-взрывных, находящихся в позиции после глухих согласных.
Миграция карел проходила в северные и центральные регионы современной Карелии, а также на тверские и новгородские земли. Таким образом сформировавшееся собственно карельское наречие является прямым наследником языка Новгородской Карелии, наиболее полно сохранившим его фонетические особенности, в том числе систему чередования ступеней согласных.
В составе собственно карельского наречия принято выделять севернокарельские (кестеньг-ский – кст., контокский – кнт., оулангский – олг., тихтозерский – тхз., ухтинский – ухт., вычетай-больский – вчт., вокнаволокский – вкн.), переходные (юшкозерский – юшк., панозерский – пнз., подужемский – пдж.) и южнокарельские (руго-зерский – ргз., тунгудский – тнг., ребольский – рбл., паданский – пдн., поросозерский – прз., мяндусельгский – мдс., тихвинский – тхв., валдайский – влд., толмачевский – тлм., весьегон-ский – всг., держанский – држ.) диалекты [6; 7].
Рассмотрим, как функционирует чередование ступеней согласных во всех этих диалектах, опираясь на работы Д. В. Бубриха [4], [5], Е. В. Ахтиа [12], Т. Лильеблада [19], Д. В. Рягое-ва [11], П. Палмеоса [20], К. В. Маньжина [8], А. А. Белякова [2, 3], а также примеры из сборников образцов речи [9], [10], [15], [17] и полевые материалы.
Собственно карельское наречие довольно полно сохранило количественное и качественное радикальное чередование ступеней согласных. Основным условием чередования остается тип слога: в открытом слоге представлена сильная ступень, в закрытом – слабая. Все исключения из этого правила можно объяснить, обратившись к истории языка.
Во всех диалектах собственно карельского наречия в количественное чередование вступают удвоенные согласные kk, tt, pp, čč. Данный вид чередования активно функционирует и в русских заимствованиях. Пр. вчт., пдж.: tu kk u: tu k ussa ‘куча: в куче’ ; тнг., тлм.: ty tt ö ty t öt ‘девушка: девушки’ ; юшк.: pa pp i: pa p id ‘поп: попы’ ; тхв.: n’ä pp i: n’ä p il’l’ä ‘щепотка: щепоткой’ ; кст.: luavi cc a: luavi c alla ‘лавка: на лавке’ ; држ.: svi cc : svi c alla ‘свеча: при свече’ .
Различия между диалектами проявляются лишь в случаях с чередованиями геминат, выступающих после сонорных согласных l, r и носового n . Во всех собственно карельских диалектах Республики Карелия, за исключением немногочисленных говоров поросозерского и паданского диалектов, а также в валдайском диалекте в открытом слоге в данном случае встречаются удвоенные геминаты kk, tt, pp, čč , вступающие в отношения чередования. В остальных диалектах на их месте выступают нечередующиеся одиночные согласные. Сокращение геминат в этих диалектах произошло уже в ходе их самостоятельного развития, вероятно, под влиянием соседнего русского языка, так как, в отличие от сочетаний согласных lg, rg, ng, rg, rd, nd, lb, rb , в рассматриваемых случаях сохранились глухие согласные. Пр. кст.: pi rt’t’ i: pi rt’ issä ‘изба: в избе’ ; пнз.: ve rkk o: ve rk olla ‘сеть: сетью ’ ; прз.: či rpp i: či rp illä ‘серп: серпом’ ; влд.: ki rpp u: ki rp ut ‘блоха: блохи’ ; тхв.: va rc i: va rc it ‘мешок: мешки’ ; држ.: tu r’k : tu r’k ill ‘шуба: шубой’.
Качественное чередование , затрагивающие одиночные смычно-взрывные и сочетания согласных, обнаруживает больше диалектных отличий, чем количественное. Для северных и переходных диалектов собственно карельского наречия (кроме подужемского и южных юшкозер-ских говоров) характерно наличие глухих смычно-взрывных согласных k, t, p , в то время как в южных диалектах выступают звонкие согласные g, d, b. Однако в сочетаниях смычно-взрывных с глухими согласными s , h , t в обоих случаях сохранились глухие согласные, что фонетически закономерно.
Слабоступенным соответствием одиночного палатального смычно-взрывного k / g в зависимости от фонетического окружения выступают согласные j, v или нуль звука.
В случае положения между двумя краткими одинаковыми гласными собственно карельские диалекты обнаруживают наличие всех возможных слабоступенных вариантов. Так, в положении между двумя лабиальными гласными u, y, o во всех диалектах выступает лабиальный согласный v . Пр. вкн.: ko k o: ko v ošša ‘куча: в куче’ ; кнт.: lu k u: lu v ut ‘число: числа’ ; тлм.: lu g u: lu v ut.
Между двумя гласными e смычно-взрывной в большинстве северных диалектов переходит в j , но в переходных и южных карельских диалектах Республики Карелии происходит исчезновение согласного, что в итоге приводит к дифтонгизации долгого гласного. В диалектах же Центральной России возможны оба варианта. Такое разнообразное представительство можно объяснить лишь наличием в говорах древнего карельского языка различных слабоступенных вариантов. Пр. вкн., ухт.: re k e-: re j et ‘сани’ сильная основа: ном. мн .ч. ; олг.: riet; юшк., пдн., тнг.: re g i: reit; влд.: re j et/ reit; тхв., тлм.: re j et/ riet.
В остальных случаях, то есть в положении между гласными a , ä , во всех диалектах смычновзрывной выпадает, что также сопровождается дифтонгизацией. Так, во всех северных, переходных, а также ребольском, ругозерском, тун-гудском, тихвинском и тверских диалектах мы встречаем дифтонги ua ( įа в весьегонском), iä ; в поросозерском, мяндусельгском и валдайском – oa , eä ; а в паданском – ua / oo / oa , iä / ee / eä . Пр. влд.: ja g au: joan ‘он делит: я делю’ ; кст., пдн., юшк., тлм.: juan.
В положении между двумя разными краткими гласными в собственно карельском наречии также выступают все слабоступенные алломорфы. Смычно-взрывной чередуется с согласным v при условии, что один из окружающих гласных лабиальный. Пр. кнт., тхз., пнз.: jo k i: jo v et ‘река: реки’ ; пдж., рбл., држ.: jo g i: jo v et; тнг., всг.: no g i: no v ešša ‘сажа: в саже’ ; влд.: nä g ö: nä v öt ‘лицо: лица’ .
В позиции после гласного i в слабой ступени появляется согласный j . В некоторых севернокарельских диалектах он выступает также в положении перед гласным e . Пр. вкн., ухт.: i k ä: i j ät ‘век: века’ ; тнг., пдн., тхв.: i g ä: i j ät; юшк., тлм. ši g a: ši j at ‘свинья: свиньи’ ; кст.: vä k i: vä j et ‘сила: силы’.
В остальных случаях смычно-взрывной чередуется с нулем звука, здесь также стоит обратить внимание на дифтонгизацию. Пр. юшк., ухт.: la k i: luat ‘потолок: потолки’ ; всг.: la g i: l i at; тхв., тлм.: vä g i: viät ‘сила: силы’ ; ргз., юшк., пдн.: veät.
Палатальный смычно-взрывной в позиции после долгого гласного чередуется с v , выступая после долгих uu, yy , и с j – после долгого ii . Следует отметить, что в большинстве собственно карельских диалектов где-то более, а где-то менее отчетливо наблюдается удвоение лабиального согласного v . Пр. кст., ухт.: pii k a: pii j at ‘прислуга: прислуги’ ; ргз., мдс., тхв.: lii g a: lii j at ‘лишний: лишние’ ; кнт.: ruo k a: ruu v alla ‘корм: кормом ; тнг., рбл.: ruo g a: ruu v alla; кст., тлм.: ru vv alla.
В зависимости от фонетического окружения происходит и чередование смычно-взрывного k / g , находящегося в положении после дифтонга . Во всех диалектах слабоступенный алломорф v / vv выступает после дифтонгов, вторым компонентом которых является лабиальный гласный . Пр. вкн.: hau k i: ha vv it ‘щука: щуки’ ; всг.: hau g i: ha vv it; вкн., юшк., тхв.: hau v it; ухт. leu k a: leu v alla ‘подбородок: подбородком’ ; тнг., влд.: leu g a: leu v alla; тлм.: le vv alla.
Алломорф j появляется в позиции за стяжен-ным дифтонгом на i . Однако в отдельных словах некоторых диалектов в данном случае i перед согласным j выпадает, что можно объяснить довольно близкой артикуляцией этих звуков. Пр. кст., кнт.: poi k a: po j at ‘сын: сыновья’ ; пдж., ргз., држ.: poi g a: po j at; влд., всг.: poi j at; тхз., вчт., юшк.: ai k a: ai j at ‘время: времена’ ; пдн., мдс., тлм.: ai g a: ai j at.
В остальных редких случаях происходит полное исчезновение смычно-взрывного. Образовавшийся при этом трифтонг сокращается. Пр. кнт.: roa k a: roat ‘сырой: сырые’ ; тнг., пдн.: roa g a: roat; тхв., тлм.: rua g a: ruat.
Рассмотрим случаи чередования палатального смычно-взрывного, находящегося в положении после согласного . При чередовании смычновзрывного, выступающего после сонорных l, r , диалектные отличия в собственно карельском наречии очевидны. В северных, переходных, а также северных диалектах южной группы в слабой ступени происходит выпадение смычно-взрывного, а в остальных смычно-взрывной ассимилируется с впереди стоящим согласным, что в диалектах Центральной России было вызвано, скорее всего, аналогией с другими видами чередования, а в остальных южных диалектах изменение произошло под влиянием соседнего ливвиковского наречия карельского языка. Пр. кст., ухт., пнз.: ja lk a: ja l at ‘нога: ноги’ ; ргз., прз., влд.: ja lg a: ja ll at; тнг., тхв., всг.: še lk ä: še l ällä ‘спина: на спине’ ; кст., кнт., олг.: ko rk o: ko r olla ‘мель: на мели’ ; пдн., прз., тхв.: mä rg ä: mä rr ät ‘мокрый: мокрые’ .
Для всех диалектов характерно отсутствие чередования в сочетании nk/ ng . Пр. вчт.: ka nk i: ka nk et ‘лом: ломы’ ; ухт.: ša nk i: ša nk it ‘шаньга: шаньги’ ; юшк.: o ng i: o ng ella ‘удочка: удочкой’ ; влд.: ke ng ä: ke ng ättä ‘ботинок: без ботинка’ .
В большинстве собственно карельских диалектов сочетание согласных hk находится за рамками чередования. Во всех переходных, а также поросо-зерском диалектах представительство чередования двояко. Такое распространение явления подтверждает его частичное исчезновение уже из восточных районов распространения древнего карельского языка. Пр.: кст., вкн., тлм.: na hk a: na hk at ‘шкура: шкуры’ ; юшк., пнз., прз.: na hk at/ na h at; кст., рбл., држ.: ta hk uo-: ta h ota ‘точить’ сильная основа: инф. ; кст., всг.: riä hk ä: riä h istä ‘грех: от греха’ ; тнг., влд.: ra hk ehet: ra h is ‘гуж: гужи’ .
Что касается чередования сочетаний согласных šk, sk, то в северных, переходных, а также тунгудском, ругозерском и ребольском диалектах происходит полное исчезновение смычновзрывного. В остальных южных диалектах Республики Карелия, а также в валдайском диалекте согласный k ассимилируется с согласными š, s. Однако в других диалектах Центральной России встречаются оба слабоступенных варианта. Одиночные š, s в них выступают только в положении после дифтонгов или долгих гласных. Вероятно, появление геминаты в слабой ступени в большинстве южных диалектов произошло по аналогии с чередованиями lk:ll, rk:rr. Пр. тхз., пдж., рбл.: leški: lešet ‘вдова: вдовы’; пдн., прз., влд.: leššet; влд.: lais’ka: lais’s’at ‘ленивый: ленивые’; тлм.: laiska: laisat; тхв.: ruoška: ruošalla ‘хлыст: хлыстом’.
Для всех диалектов собственно карельского наречия характерно чередование tk:t . Пр. вчт.: ma tk a: ma t ašša ‘путь: в пути’ ; юшк.: pi tk ä: pi t ällä ‘длинный: длинным’ ; всг.: i tk u: i t un ‘плач’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.
Слабоступенным соответствием одиночного дентального смычно-взрывного t / d в собственно карельском наречии являются нуль звука или согласные v, j . Чередование происходит по тем же правилам, что и в случае с согласным k / g , то есть на выбор слабоступенного алломорфа влияет главным образом фонетическое окружение.
Итак, в положении между двумя одинаковыми гласными t / d чередуется с согласным v в окружении лабиальных гласных, с j – в положении между гласными e (хотя в некоторых диалектах также происходит выпадение согласного с последующей дифтонгизацией), с нулем звука – в положении между гласными a, ä (в данном случае стоит обратить внимание на дифтонгизацию). Пр. вкн.: ku t u: ku v un ‘нерест’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч. ; тнг., тлм.: ku d u: ku v un; кст., вчт., пнз.: ve t e-: ve j eššä ‘вода’ сильная основа: инес. ед. ч. ; тхв., влд., држ.: ve d e-: ve j eššä; тнг., рбл., пдн.: veissä; ргз.: veeššä; ухт., вкн.: pa t a:puat ‘горшок: горшки’ ; тнг., ргз., влд.: pa d a: poat; тхв., тлм.: puat; всг.: p i at.
В положении между двумя разными краткими гласными на выбор слабоступенного алломорфа также влияет фонетическое окружение. Если перед смычно-взрывным или за ним выступает лабиальный согласный, то во всех диалектах собственно карельского наречия в слабой ступени выступает согласный v . В положении после гласного i дентальный смычно-взрывной чередуется с согласным j , однако в случае с глаголом pityä в слабой ступени в большинстве диалектов выступает нуль звука. В остальных позициях происходит выпадение смычновзрывного. Пр. кнт., тхз., вкн.: ma t o: ma v ot ‘змея: змеи’ ; рбл., мдс.: ma d o: ma v ot; тхв., влд., всг.: re d u: re v ušša ‘грязь: в грязи’ ; ргз., тлм.: ri d a: ri j at ‘капкан: капканы’ ; ухт.: pitä-: pi j en ‘держать’ сильная основа: 1 л. ед. ч. през. ; тнг., пдн., мдс.: pi d ä-: pien; тхз., кст., ухт.: kä t e-: keät ‘рука’ сильная основа: ном. мн. ч. ; юшк., пдн., тхв.: kä d e-: kiät; влд.: köät.
В положении после долгих гласных дентальный смычно-взрывной чередуется с алломорфами v , j по тем же правилам, что и палатальный. Пр. вкн., кнт.: uu t e-: uu v et ‘новый’ сильная основа: ном. мн. ч. ; рбл., тхв., юшк.: uu d e-: uu v et; пдн.: uuet; ухт., кнт., пнз.: vii t e-: vii j en ‘пять’ сильная основа: ген. ед. ч. ; ргз., влд., тлм.: vii d e-: vii j en. После дифтонга , заканчивающегося на лабиальный гласный, в слабой ступени на месте дентального выступает одиночный или удвоенный согласный v , после стяженных дифтонгов на i – согласный j. В остальных случаях происходит выпадение смычно-взрывного согласного с последующим сокращением образовавшегося трифтонга. Пр. ухт.: lau t a: lau v at ‘доска: доски’ ; пнз.: la vv at; тнг.: lau d a: lau v at; ргз., влд., држ.: la vv at; тлм.: lau vv at; тхз., ухт., юшк.: ai t a: ai j at ‘забор: заборы’ ; рбл., прз., тлм.: ai d a: ai j at; ргз., влд.: rai d a: rai j at ‘полоса: полосы’ ; ухт., вкн.: rua t а-: ruan ‘работать’ сильная основа: 1 л. ед. ч. през. ; мдс., рбл., тлм.: rua d a-: ruan; пдн.: roan.
Чередование дентальных смычно-взрывных в положении после согласных в диалектах собственно карельского наречия представлено однородно.
Дентальный смычно-взрывной в положении после согласных l, r, n, s, š ассимилируется с ними. Лишь в держанском диалекте при чередовании сочетания согласных rd произошли дальнейшие фонетические изменения, а именно удлинение впереди стоящей гласной и сокращение удвоенного rr . Пр. кст., тхз., юшк.: pe lt o: pe ll ot ‘поле: поля’ ; прз., тхв., тлм.: pe ld o: pe ll ot; кнт., тхз., пнз.: pa rt a: pa rr at ‘борода: бороды’ ; рбл., тхв., всг.: pa rd a: pa rr at; држ.: paa r at; кнт., олг., юшк.: ra nt a: ra nn alla ‘берег: на берегу’ ; пдж., рбл., всг.: ra nd a: ra nn alla; вчт., тнг., влд.: la št u: la šš ut ‘щепка: щепки’ ; ухт., држ.: ko št o: ko šš ot ‘полотно: полотна’ .
При чередовании сочетания согласных ht во всех диалектах собственно карельского наречия происходит выпадение смычно-взрывного согласного. Пр. кнт., тнг., тлм.: le ht i: le h et ‘лист: листья’ ; вчт., ргз., прз., тхв.: a ht ahat: a h aš ‘тесные: тесный’ .
Во всех собственно карельских диалектах лабиальный смычно-взрывной p / b в слабой ступени переходит в согласный v . Исключением является сочетание согласных mp / mb , когда смычно-взрывной ассимилируется в слабой ступени с впереди стоящим согласным. Пр. кст., пнз.: lei p ä: lei v ät ‘хлеб: хлеба’ ; пдн., држ.: lei b ä: lei v ät; кст. ha lp a: ha lv at ‘дешевый: дешевые’ ; тнг.: vа rb ahat: va rv aš ‘пальцы на ноге: палец на ноге’ ; тхв.: vi rb o: vi rv olla ‘верба: вербой’ ; кст., вкн., юшк.: ha mp ahat: ha mm aš ‘зубы: зуб’ ; рбл., мдс., влд.: ha mb ahat: ha mm aš.
Итак, система чередования ступеней согласных во всех диалектах собственно карельского наречия сохранилась довольно близкой к древнему карельскому языку, что говорит о важной роли данного явления как в структуре слова, так и в раз- граничении словоформ. Диалектные отличия в рассматриваемой системе связаны, во-первых, с изменениями, произошедшими в ней еще в древнем карельском языке, во-вторых, с влиянием соседних языков. Не стоит забывать и об аналогии.
Следует отметить, что во всех собственно карельских диалектах можно найти примеры отсутствия чередования. В первую очередь это присуще заимствованиям из русского и финского языков и неологизмам. Однако все чаще явление опрощения захватывает и исконные карельские слова. Данная тенденция грозит тем, что со временем явление чередования ступеней согласных в карельском языке может сойти на нет.
Список литературы Чередование ступеней согласных в собственно карельском наречии карельского языка
- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007. 576 с.
- Беляков А. А. Фонетика села Толмачи. Петрозаводск, 1947. Рукопись.
- Беляков А. А. Грамматика карельского языка: Карельское наречие собственно карельского языка. Петрозаводск, 1948. Рукопись.
- Бубрих Д. В. Грамматика карельского языка: (фонетика, морфология). Петрозаводск: Карельский научно-исследовательский институт культуры, 1937. 79 с.
- Бубрих Д. В., Беляков А. А., Пунжина А. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: Финно-угорское общество, 1997. 209 с.
- Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск: Периодика, 1999. 120 с.
- Кочкуркина С. И. Древние карелы. Петрозаводск: Карелия, 1987. 72 с.
- Маньжин К. В. Очерк весьегонского говора собственно-карельского языка. 1964. Рукопись.
- Образцы карельской речи: Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел/Под ред. В. Д. Рягоева, М. Есканен. Joensuu; Petroskoi, 1994. 459 s.
- Образцы карельской речи: Тихвинский говор собственно карельского диалекта/Сост. В. Д. Рягоев. Л.: Наука, 1980. 384 с.
- Рягоев Д. В. Тихвинский говор карельского языка. Л.: Наука, 1977. 286 с.
- Ahtia E. V. Karjalan kielen äänne-ja sanaoppi. Suojärvi: Karjalan kansalaisseura, 1936. 144 s.
- Itkonen T. Välikatsaus suomen kielen juuriin//Virittäjä. 1983. 87. S. 190-229, 349-386.
- Kettunen L. Karjalan heimon ja karjalan kielen iästä ja alkuperästä//Virittäjä. 1940. 44. S. 129-144, 289-301.
- Kujola J. Tverin-ja Novgorodinkarjalaisia satuja. Helsinki: SKS, 1932. 134 s.
- Lehtinen T. Kielen vuosituhannet. Helsinki: SKS, 2007. 215 s.
- Leskinen E. Tverin Karjala. Helsinki: SKS, 1932. 36 s.
- Leskinen H. Suomen itamurteet keskiajan ja uuden ajan taitteessa//Virittaja. 1964. 68. S. 99-101.
- Liljeblad T. Tunkuan murteen konsonantismi. Helsinki, 1931. 68 s.
- Palmeos P. Karjala Valdai murrak. Tallinn, 1962. 226 s.
- Raisanen A. Suomen murteiden luennot. Joensuu: Joensuun yliopiston monistuskeskus, 1976. 97 s.
- Tunkelo E. Inkeroismurteiston asemasta. Helsinki: Helsingin liikekirjapaino OY, 1952. 320 s.
- Turunen A. Itäisten savolaismurteiden äännehistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1959. 319 s.