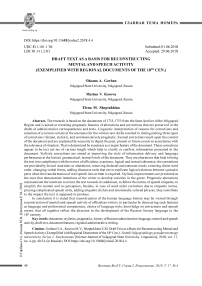Черновой текст как основа реконструкции речемыслительной деятельности (на материале региональных документов xviii В.)
Автор: Горбань Оксана Анатольевна, Косова Марина Владимировна, Шептухина Елена Михайловна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследование выполнено на материале архивного фонда «Михайловский станичный атаман» (Государственный архив Волгоградской области). На основе лингвистического анализа правки в черновиках документов предлагается интерпретация мотивов текстовых исправлений и выбора того или иного варианта высказывания. Выделено три типа правок: фактуальные, стилистические, коммуникативно-прагматические. Фактуальная правка, связанная с содержанием документа и нацеленная на адекватную передачу сути событий, которые происходили, происходят или будут происходить, обусловлена одним из важнейших свойств документа - точностью - и осуществляется посредством вставки развернутого текстового фрагмента, отдельного слова или словосочетания, дополняющих или уточняющих имеющуюся в документе информацию. Стилистическая правка, связанная с речевым воплощением содержания, затрагивает лексический, грамматический, текстовый уровни документа и способствует его приведению в соответствие требованиям канцелярского стиля: обеспечивается точность, логичность, связность текста посредством лексических вставок или замен, устранения диалектных и разговорных единиц, восстановления прямого порядка слов, изменения грамматических форм, добавления союзов, указательных местоимений, наречий, эксплицирующих логические отношения между частями высказывания при трансформации устной речи в письменную. Выявлены стилистические правки, демонстрирующие стремление писца разнообразить речь. Правки коммуникативно-прагматического характера, связанные с ориентированностью текста на адресата, обеспечивают соблюдение речевого этикета, упрощают восприятие представляемой в документе информации, способствуют реализации его воздействующей функции в результате восстановления порядка слов в этикетных формулах, устранения сложных речевых оборотов, добавления этикетных формул и высказываний, усиливающих эмоциональное воздействие на адресата. Делается вывод о возможности реконструкции речемыслительной деятельности составителей документов с учетом их языковых и профессиональных компетенций, языкового вкуса, представлений о «правильной» речи, отражающих тенденции развития русского литературного языка в XVIII веке.
Короткий адрес: https://sciup.org/149129936
IDR: 149129936 | УДК: 811.161.1'04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.4
Текст научной статьи Черновой текст как основа реконструкции речемыслительной деятельности (на материале региональных документов xviii В.)
DOI:
Черновики как подготовительные варианты создаваемых текстов являются объектом изучения разных наук. В первую очередь ими занимается текстология: именно в тру- дах по текстологии, многие из которых стали классикой филологической науки, разработаны основные понятия, принципы, методы, приемы исследования истории создания художественных, исторических, религиозных текстов [Алексеев, 1999; Бонди, 1971; Жуковская, 1976;
Лихачев, 2001; Творческая история, 1927; Томашевский, 1959; и др.]. Сформулированы задачи этой дисциплины, в которых акцент постепенно переместился с восстановления архетипа памятника, исходного авторского текста на исследование всей его истории: в древнерусской литературе – его бытования в списках, редакциях и т. д., в литературе нового времени – творческой истории произведений от авторского замысла к их изданию (и переизданию). В этом ключе особое внимание текстологов, изучающих новую литературу, было обращено на черновые рукописи произведений, создаваемые «в процессе непосредственной работы, сочинения вещи» [Бонди, 1971, с. 148]. Решение перечисленных задач потребовало выработки метода текстологического чтения черновиков, позволяющего установить последовательность порождения текста [Бонди, 1971, с. 143–190], а также способов передачи ее исследователем и/или издателем – транскрипции черновиков. Современная текстология продолжает активно развиваться в направлении изучения творческой истории не только литературных, но и философских, музыкальных произведений с опорой на черновые рукописи [например: Тарасова, 2011; Фатыхова, 2004; Шубникова-Гусева, 2009; Щедрина, 2008; и др.]; ведет поиски новых возможностей передачи процесса работы над текстом, предоставляемых цифровыми технологиями [Векшин, Хомякова, 2015].
Что касается деловых документов, то их черновики рассматриваются, как правило, с позиций исторического источниковедения. Многими учеными они привлекаются к исследованиям в качестве материала для анализа наряду с другими опубликованными и неопубликованными архивными источниками и используются для решения различных задач, позволяя охарактеризовать тот или иной социальный тип личности [Егоров, 2013], более полно представить отдельную историческую персону посредством изучения личного архива [Всеволодов, 2016], раскрыть стадии создания важнейших исторических документов, выявить их содержательные, идейные компоненты, не нашедшие отражения в окончательном варианте текста [Леонов, 2012].
В ряде работ черновые бумаги исследуются с палеографической и текстологической точек зрения. Например, в черновиках биографических и служебных документов И.А. Милютина анализируются особенности почерка, способы правки, порядок размещения выносных записей, стратегии развертывания текста [Всеволодов, 2016].
В собственно лингвистическом аспекте черновики делопроизводственных документов практически не изучались, хотя языковая составляющая включается, например, в метод комплексного палеографического, текстологического, дискурсивного анализа лексики, риторики текстов черновиков, предложенный А.И. Ереминым и, по его мнению, дающий возможность раскрыть черты мышления и поведения людей в повседневной жизни, не предназначенные для фиксации формуляром [Еремин, 2014, с. 150–151].
Методологически значимым в контексте нашего исследования является мнение Л.И. Тимофеева, высказанное относительно изучения черновиков художественных произведений. Ученый отмечал, что они представляют «самостоятельный интерес при массовом их рассмотрении, так как позволяют судить об отношении писателя к различным сторонам слова вообще» [Тимофеев, 1987, с. 64]; рассматривая языковые замены «в конкретной связи со всеми особенностями словесной системы данного текста, мы вслед за тем получаем возможность выйти за пределы данного текста, ... другими словами – говорить уже о закономерностях творческого процесса в целом» [Тимофеев, 1987, с. 70]. Распространяя эту мысль и на другие тексты, в частности тексты документов, считаем возможным говорить о закономерностях речемыслительного процесса. Именно черновики с их правками, зачеркиваниями и вставками слов, фраз и т. д. показывают, как создается текст. Б.В. Томашевский об этом писал: «Те варианты, которые находятся в черновике, есть свидетельства о поисках и о колебаниях в выборе текста. Это не переработка текста, которая наблюдается в последующих редакциях, это отражение процесса рождения произведения» [Томашевский, 1959, с. 109]. На наш взгляд, лингвистический анализ черновых документов, опирающийся на идеи Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Е.С. Кубряковой, С.Д. Кацнельсона о связи мышления и речи, этапах порождения речи, реализации смыслов в языковых единицах и др. позволит не только представить последовательность создания документного текста, но и увидеть в нем отражение речемыслительного процесса, реконструировать речемыслительную деятельность писавшего их человека.
Специфика документа как объекта лингвистического исследования
Документный текст, по сравнению с другими, в том числе художественными, текстами имеет свои особенности: это стандартность структуры (композиции) и речевых средств, задаваемых формуляром документа; типизированность отражаемой в тексте социальной ситуации, соотносимой с тем или иным видом (жанром) документа; регламентированность деловой коммуникации; свойства субъекта текста (во многих случаях он является коллективным), характер работы по созданию документа в официальном учреждении (возможность диктовки текста, устного обсуждения и т. д.). Все это накладывает ограничения на использование черновиков документов как основы для реконструкции индивидуального речемыслительного процесса. Ограничения возникают и тогда, когда рассматриваются документы предшествующих эпох, характеризующихся социальными, культурными и языковыми отличиями от эпохи современной.
Тем не менее предлагаемый в статье подход к лингвистическому анализу черновиков документов правомерен.
Во-первых, речевая деятельность в принципе не исключает создания типовых текстов. М.М. Бахтин считал, что в типичных ситуациях человеческая речь отражается в форме готовых речевых жанров, которые даны носителям языка почти так же, как родной язык, – короткой реплики, поговорки, бытового рассказа, письма, стандартной военной команды, делового документа, романа и многих других [Бахтин, 1979, с. 231]. Учеными отмечается, что в процессе речепорождения реализуются не только творческое начало, но и разного рода шаблоны, стереотипы, модели, схемы – когнитивные, коммуникативные, собственно языковые (концепты, фреймы, речевые жанры, синтаксические модели, устой- чивые сочетания слов разной степени сращения и др.) [Норман, 1994, с. 124–130; Федо-рушков, 2018; и др.]. Так, Е.С. Кубрякова пишет, что «сближение содержания с языковой формой значительно облегчается благодаря тому, что уже при восприятии мира и определенного его фрагмента действовали тоже стереотипы или схемы» [Кубрякова и др., 1991, с. 14]; речемыслительные процессы связаны в том числе «с отнесением задумываемого сообщения к определенному типу текста»; «в акте создания речевого высказывания человек – мысленно – подводит сообщаемое под известный стереотип, осмысляя его как просьбу или запрос информации, как рассказ или инструкцию и т. п.» [Кубрякова и др., 1991, с. 14]. Можно предположить, что составитель документа, оказываясь вовлеченным в сферу официально-деловых отношений, осмысливает характер сложившейся ситуации как типовой и в соответствии с ней выбирает вид (жанр) документа, функционально предназначенный для ситуаций подобного рода; выбор жанра документа, в свою очередь, обусловливает выбор его схемы (композиции, набора реквизитов, то есть формуляра), а выбранная схема наполняется соответствующими ей речевыми средствами, в том числе готовыми, типовыми [Косова, 2015].
Во-вторых, в документных текстах выделяются свободные от клише части, создание которых требует определенного творчества; этот творческий речемыслительный процесс и отражается в разного рода текстовых правках.
В-третьих, правильное понимание мотивации производимых правок с достаточной долей достоверности возможно, если учитывать исторический контекст – особенности управления и делопроизводства, состояние языковой системы, языковую ситуацию и другие факторы. Не случайно, например, при решении текстологических задач Д.С. Лихачев счел необходимым описать работу древнерусских книжников над рукописями [Лихачев, 2001, с. 62–99], а Б.В. Томашевский – работу наборщика и корректора над печатным текстом [Томашевский, с. 38–66].
Итак, в данной статье рассматриваются черновики как рукописи, «в которых текст имеет несколько слоев, отражая творческий процесс» [Лихачев, 2001, с. 132] или подготовительный этап создания документов.
Методика анализа черновиков документов
Объектом рассмотрения в настоящей статье являются документы архивного фонда «Михайловский станичный атаман» Государственного архива Волгоградской области, созданные в 1734–1753 гг. (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 1–9; далее при ссылке на документы указывается также лист / оборот листа). Это черновики исходящих документов, созданных в канцелярии Михайловской станицы; среди них подавляющее большинство составляют доно-шения и рапорты старшин и станичных атаманов в канцелярию Войска Донского и другие учреждения; встречаются также сообщения, прошения, сказки, приговоры станичного сбора (названия приводим по самоназваниям документов). В рассмотренном архивном материале исходящие документы представлены в основном именно черновиками; беловые от-пуски (копии с исходящих документов, сохранявшиеся в деле для справки) единичны.
Составителями документов выступали станичные писари из грамотных казаков, даже если адресантами были атаман, старшина или иное должностное лицо, которые при этом могли «не уметь» грамоте, о чем в исследуемых документах есть соответствующие записи. Текст диктовался вышестоящим лицом либо создавался на основе его рассказа как вторичный. Задача писаря заключалась в трансформации общего содержания в письменный текст и в оформлении этого текста по правилам делопроизводства [см.: Косивцова, 2008, с. 259; Шептухина, 2017, с. 1176].
Черновые документы фонда созданы в основном разными писцами; некоторые из них составлены одним человеком, например, приговор станичного сбора от 18 мая 1748 г. (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 1–2) и сказка казаков Михайловской станицы от 26 февраля 1749 г. (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 5 – 5 об.) – станичным писарем Иваном Вишняковым. Однако каждый документ в отдельности, насколько позволяют судить почерк и чернила, писался и правился одним человеком, что дает основание для реконструкции речемыслитель- ного процесса при создании одного документа, в совокупности же – для выявления общих закономерностей речемыслительной деятельности.
Исследование черновых текстов заключалось в анализе исправлений, осуществлявшихся при создании документа: в выявлении способов и последовательности правки текста, в ее лингвистической интерпретации (объяснении мотивировки выбора той или иной речевой единицы, расширения или сужения текста).
Среди способов правки выделены такие, как зачеркивание (удаление единицы текста), вставка (добавление единицы текста), собственно исправление (вставка единицы текста взамен удаленной). Вставки производились путем вписывания текстового фрагмента между строк с соблюдением последовательности чтения строк; при исправлении предпочитаемый вариант обычно надписывался между строк над зачеркнутым (отмечены единичные случаи написания нескольких букв поверх исправляемых). Вставляемый фрагмент мог записываться также на свободном пространстве листа бумаги – как правило, на левом поле, специально для этого достаточно широком, иногда на верхнем или нижнем полях. Запись на левом поле чаще производилась горизонтально, в соответствии со строками основного текста, но могла быть сделана и вдоль левого края листа (если вставляемый фрагмент был довольно объемным), перпендикулярно строкам основного текста. При этом в тексте специальным знаком отмечалось место вставки, такой же знак был перед добавляемым фрагментом, записанном на поле. Набор знаков вставки является общим для всех документов, независимо от составителя: это знаки «‘‘‘» (основной), « ⊕ », «+», «#», в единичных случаях «∙/.», «Х». Если на одной стороне листа давалось несколько вставок, то писцы старались использовать знаки, не повторяясь; в противном случае помещали добавляемые фрагменты по возможности ближе к месту вставки.
С точки зрения последовательности исправлений можно отметить те, которые производились непосредственно в процессе порождения высказывания (отвергнутый вариант зачеркивался и новый писался в продол- жение этой же строки и этого же высказывания) либо после его завершения или завершения всего текста (добавляемый текст вставлялся между строк или на поле, предпочитаемый вариант писался над зачеркнутым, то есть отвергнутым).
Важной задачей исследования является выяснение мотивов текстовых исправлений и выбора того или иного варианта высказывания. Исправления в рассмотренных документах не касаются графики и орфографии, все они носят содержательный или собственно языковой характер, то есть при порождении текста писцы демонстрировали владение орфографическими навыками, контроль же (проверка) текста осуществлялся без учета орфографии, описки (пропуски букв и под.) также не получали исправления, но, возможно, это происходило при переписывании текста набело.
Характер текстовых исправлений в региональных документах XVIII в.
Лингвистическая интерпретация правок, вносимых писцом в текст документа, позволила выделить среди них три типа: фактуаль-ные, стилистические, коммуникативно-прагматические.
Фактуальная правка связана с содержанием документа и нацелена на адекватную передачу фактуальной информации – сути событий, которые происходили, происходят или будут происходить в действительности [см.: Горбань и др., 2016, с. 185]. Она осуществляется посредством вставки развернутого текстового фрагмента или отдельного слова, выражения, дополняющего или уточняющего уже имеющуюся в документе информацию. Такого рода правки заключаются большей частью в расширении порождаемого текста и обусловлены одним из важнейших свойств документа – точностью.
Прежде всего, восполняются сведения, позволяющие идентифицировать лиц, упомянутых в документах:
-
(1) от(е)цъ ево Васил 4 i Милованов был коsакъ и коsачьи службы в равенстве в тои станицы с коsаками проиsводил а онъ Селиванъ доподлино коsачии сынъ а ωтецъ ево умре там (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 5)1,
благодаря информации, добавленной после характеристики отца Селивана, подчеркивается, как следствие, принадлежность Селива-на к казакам, то есть уточняется его социальный статус;
-
(2) i мать ево родная была призвана вдова Авдотя Василева которая и н(ы)н 4 въ жителстве находитца т[а]м в лубоко’ <так!> старости [в то]тъ зборъ была призвана i на вспросъ покаsала (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1),
здесь в текст документа вставлен фрагмент, в котором уточняется информация о матери подследственного: указаны ее имя, место жительства и место, куда она была призвана и где дала показания (станичный сбор), при этом поначалу пишущий решил включить в текст информацию о ее приглашении на сбор, а затем передумал и написал подробнее о ней самой. Добавленные сведения усиливают юридическую значимость документа и придают достоверность показаниям;
-
(3) по смерти предписаннои сестры Матрены (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.);
-
(4) от предписанωи снохе сво[еи] Матрене (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.),
добавлены сведения о родственных отношениях упоминаемых лиц;
-
(5) нижишия <так!> раби Михаиловскои станицы старшина Петръ Лащилинъ станищнои ата-манъ Еетропъ Григорев i всеи станицы коsаки (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 10 об.),
в исходном тексте пропущен один из адресантов; приписать его в конце документа, вероятно, было невозможно по причине высокого статуса, а указать старшину в числе адресантов было, по-видимому, необходимо для придания значимости просьбе, содержащейся в письме.
К фактуальным правкам можно отнести добавление имени лица, о котором идет речь:
-
(6) нашеи станицы отставно козакъ Степанъ Ку[...] в то время случился был (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 5 об.);
-
(7) Михаиловскои станицы станичныи атаман Евтропъ Купинъ i вси станицы коsаки (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 15).
В результате фактуальной правки в документе могут быть восполнены детали происходивших событий, существенные для следственного дела, для регулирования финансовых отношений и т. д.:
-
(8) Василя Швеца которои ωбявил справедли-востию пред мною якобы онъ поклепал вашего ведомства пыховскаго малорасиянина Михаилу Ткача напрасно сказал что пыховскии их малорас-сиянинъ Ткач на этое купленную шубу в покупке свидетел 4 и ни одного не показалъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 5 – 5 об.),
охарактеризовано содержание данных Василием Швецом показаний: они являются поклепом; уточнено имя (прозвище) малороссиянина;
-
(9) оная шуба имъ Васи Швецом обявляна взита Воиска Донскаго г(о)с(по)дамъ старшинамъ бозарнымъ которая ими г(оспо)дами взита (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 5 об.),
воспроизведены важные для следствия подробности случившегося: украденная шуба не просто была взята, но предъявлена старшинам самим Швецом (при этом пишущий начал было писать полное имя, но счел возможным оставить только прозвище упоминавшегося ранее лица);
-
(10) ценою за восем за тысячю за восемь сот рублевъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.),
уточнена цена за определенное количество кирпича, что позволило, видимо, оценить возможности финансирования строительства;
-
(11) is ымеющегося в нашеи станицы тако ж и в Урюпенско’ Покровскои ярмонки вашего воис-коваго терезного збору (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.),
уточнен источник финансирования: войсковой, а не станичный или иной сбор, в том числе с ярмарки.
В текст может быть добавлена ссылка на документы, ставшие юридическим основанием для осуществления тех или иных действий либо источником какой-либо юридически значимой информации:
-
(12) оно’ каsакъ Iванов по тои премемориi и реестру будит требоватца (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 7);
-
(13) по им 4 ннымъ нашимъ спискамъ достоверною справку им 4 ли что и по справке у нас в станиц 4 имелся имелся коsакъ Л 4 онт 4 и Шишкин которои умр 4 назад тому л 4 тъ дватцат въ 73 годъ умре (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 4).
Пример (13) содержит также фактуаль-ную правку, связанную с уточнением хронологии событий: оборот назад тому л 4 тъ дватцат , выражающий неопределенное количество лет, чему способствуют его дейкти-ческая функция ( тому назад – ‘назад от нас, нашего времени’) и обратный порядок слов ( лет двадцать ), сразу в процессе порождения высказывания заменен на точную дату ( в 73 год )2. В том случае, когда определение точной даты представляется затруднительным, восстанавливается относительная хронология событий:
-
(14) после того на рускои баб 4 зовутъ звали ее Марфою а чья дочь не знаемъ он женился и по-женитве cо ωною в давных годех а сколко тому будетъ не упомн[ит] и давно из Михаиловскои станицы отбыл (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.), вместо зачеркнутого и давно вставлено уточнение, что отъезд произошел после женитьбы, а насколько давно, сведений не имеется.
Стилистическая правка носит собственно языковой характер и затрагивает лексический, грамматический, текстовый уровни. В результате документ приводится в соответствие требованиям делового языка – обеспечивается точность, устраняются диалектные, разговорные и вводятся книжные элементы и т. д.
На лексическом уровне отмечаются вставки и замены слов и словосочетаний.
-
– Устраняются диалектизмы:
-
(15) на бахче на ωгороде (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 4 об.),
диалектное бахча = бакша в значении ‘огород, сад’ СЦСРЯ отмечает как обл. (т. 1, с. 19, 25), САР – как татарское (т. 1, стб. 111), СОРЯ – как татарское, уйгурское и караимское (вып. 1, с. 76). В документе оно заменено на общеупотребительное слово.
– Уточняется наименование вида документа:
-
(16) где пожидат ево Мартинова известия пис-ма (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6 об.),
лексическая замена обусловлена, по-видимо-му, необходимостью конкретизировать форму сообщения, придав ему статус документа.
– Переносится акцент с формы на содержание документа:
-
(17) получили мы всепокорн 4 ишия от вашегω высокоблагородия и всего Воиска Донскаго воис-ковую грамоту... в каторои написано покаsано (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 6, л. 3),
в результате лексической замены актуализирована содержательная сторона пересказываемой грамоты ( показано – «объявлено, сделано явным, выражено»), высказыванию придана официально-деловая окраска и, возможно, усилена его юридическая значимость, поскольку термин показание «свидетельство» использовался в приказном языке (СЦСРЯ, т. 3, с. 304).
– Устраняются разговорные элементы:
-
(18) Матрена Василева ... в sамужество была вsята ... i по взяти i по женитве онои Семенъ ... посланъ в службу в Ниsовои корпусъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.),
разговорное неполное взята заменено семантически полным устойчивым оборотом в замужество взята , соответственно, по взятии было заменено на по женитве , соотносимое с целым оборотом, а не с глаголом.
– Уточняется именование лица:
-
(19) в свидетелство никого он Ткачъ не нашол (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 5 об.),
местоимение он указывает на то, что лицо упоминалось ранее, однако это предыдущее упоминание отделено от данного высказывания предложениями с указанием других лиц, что могло вызвать непонимание того, о ком идет речь, и потребовало вставки имени.
-
(20) с отаманом Василиемъ Тимофеевымъ Сегуняевым (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.);
-
(21) именованнои козакъ Семенъ Iванов Чер-тин в станицы Михаиловскои коsаком был (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1).
Выполненная в (20) и (21) правка отражает адаптацию документа к общерусской
Шептухина . Черновой текст как основа реконструкции норме трехкомпонентного официального именования людей (имя, отчество, фамилия) – у казаков обычно фамилии не употреблялись, а формы типа Тимофеев , Иванов – это именования по отцу.
-
(22) Са[нн] 4 евъ Костенътин (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.);
-
(23) Костентина и Аник 4 я она детеи Василевы <так!> а чьи прозванием не извесна (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.),
для соблюдения требования документной точности в (22) фамилия, которая в тексте относится к нескольким лицам, заменена именем конкретного лица; в (23) уточняется полное имя лиц: первоначальное Васил(ь)евы(х) дополнено уточнением детей , что указывает на именование по отцу; необходимость же указать фамилию ( прозвание ) потребовала вставки о том, что фамилия не известна. Возможно, первоначально не было ясно, чем является Васильевых – патронимом или фамилией. Последующее уточнение потребовало правки.
– Устраняется стилистическая несоче-таемость слов:
-
(24) и о том рабское покорнеишие дерsновение принели ... того ради всепокорнеишия прин[яв] рабскую смелость (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.),
лексическая замена обусловлена тем, что существительное дерзновение могло использоваться для выражения противоположных оценок: «1) Говоря в хорошую сторону: бодрость, смелость, отважность в чем... 2) В обыкновенном языка употреблении говорится в худую сторону и означает: неосновательная, безрассудная предприимчивость в чем, или неучтивость, нескромность; неумеренная, излишняя отвага» (САР, т. 2, стб. 629), дерзновение – «благородная смелость» (СЦСРЯ, т. 1, с. 320). Возможно, составителю документа оно (в первом значении) показалось несовместимым со словом рабский , поэтому было заменено синонимом см 4 лость от см 4 лый – «2. дерзновенный» (САР, т. 5, стб. 620), что позволило, с одной стороны, сохранить этикетное самоуничижение (общепринятая формула рабский ), а с другой – выразить свою решительность, но без какой-либо оценки.
– Подбирается точное слово:
-
(25) рабски вашего отеческаго заступления ходатаиства просим же потому не можно ль нам всепокорнеишим о тои же м(и)л(о)сти у всего Во-иска Донскаго просить (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.),
лексическая замена обусловлена тем, что существительное ходатайство «представительство, заступление» (САР, т. 3, стб. 219; СЦСРЯ, т. 4, с. 405) точнее, чем заступление , отражает воспроизводимую в документе ситуацию, связанную с представительством (ходатайством) войскового атамана перед всем Войском, а не только с защитой.
– Восполняются устойчивые обороты:
-
(26) вседержителя г(о)с(по)да бога и спаса нашегω Iисуса Христа, i всенепорочные матере его всемилостивеишия г(о)сп(о)жи д( 4 )выя Мариi (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 7);
-
(27) на полном станищномъ зборе Михаи-ловскою станицаю ... скаsали (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1).
Стремление к точности реализуется в правках на грамматическом уровне.
– Изменяется порядок слов:
-
(28) наsатъ л 4 т восмнатцать летъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 5);
-
(29) доношение было писано было (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6),
в (28) выбран порядок следования существительного за числительным, который не только в современном русском языке, но и в русском языке XVIII в. выражал определенность (см. об этом: [«Российская грамматика», 1981, с. 172]); в (29) изменение порядка слов связано со стилистическими требованиями – использованием в книжной речи латинизированных конструкций.
– Исправляются или добавляются грамматические формы глаголов, например:
-
(30) после того на рускои баб 4 зовутъ звали ее Марфою а чья дочь не знаемъ он женился (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.),
грамматическая форма сказуемого изменена в соответствии с содержанием текста (отнесение действия к прошлому при повествовании о прошедших событиях);
-
(31) ежели мы вышеписанные Усавъ Саранинъ всеи своеи скаскои скаsали что ложно и впред кемъ isобличины будемъ в такомъ случае повинны бу-демъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 5 об.), восстановлена связка в будущем времени при именном сказуемом, тем самым восстановлена и формальная корреляция сказуемых в частях сложного предложения.
Стилистическая правка может определяться стремлением реализовать требования логичности, связности, целостности текста и осуществляется на лексическом и грамматическом уровнях.
К правкам лексического характера можно отнести замены личного местоимения:
-
(32) именованная Матрена Василева за ним за покаsанным Семеном в sамужество была вsята (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1);
-
(33) слышала она вышеименованая Василева (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.).
Местоимение 3 лица в анафорической функции употребляется в рассмотренных документах редко. Оно практически всегда сопровождается именем собственным, с которым соотносится (например, он Санеевъ ), либо заменяется словами названный , речен-ный и под. в той же функции и в сочетании с именем собственным. Такое словоупотребление обусловлено требованием связности текста, документной точности, однозначности выражения, а также приданием речи книжного характера.
Грамматические правки, обеспечивающие логичность, связность текста, обнаруживаются в тех контекстах, где составитель документа, по-видимому, трансформирует устную речь в письменную:
-
(34) то место весма приличьно для того что колаколнои звон при оных будетъ один (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 10);
-
(35) а ежели б 4 с пастуха скотъ иман буд 4 тъ на гл 4 б 4 < так вм. хл 4 б 4 > или на речки в лугах то б взят с хозяевъ с лощади < так! > и с коровы по д 4 ся-ти коп 4 якъ (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 1 – 1 об.),
в (34) восстановлен причинный союз для того что «потому что» или изъяснительный что заменен на для того что с целью уточнить логическую связь предложений; восстановлена связка будет при именном сказуемом, которая точ- нее передает временную отнесенность ситуации, а также уточнено место – при оных (то есть церквах). Вероятно, обе вставки появляются, когда первоначально записанная устная речь «перекодируется» в письменную по правилам письменной речи. Правки, произведенные в (35), можно толковать следующим образом: если текст диктовался или обсуждался в общих чертах, акцент был сделан именно на размере штрафа (по 10 копеек с лошади и с коровы), но при передаче высказывания в письменной форме образовались, во-первых, пропуск подлежащего скотъ и сказуемого взять, а во вторых – бессмыслица, так как штраф не может быть взят с лошади. В ходе правки добавлены недостающие члены предложения, вторая часть союза ежели ... то, а следовательно, восстановлена структура предложения и его смысл.
Соблюдение требования логичности документного текста обеспечивается добавлением союзов, указательных местоимений, наречий, эксплицирующих логические отношения между частями предложения и отдельными предложениями, например:
-
(36) просим же потому не можно ль нам все-покорнеишим о тои же м(и)л(о)сти у всего Воиска Донскаго просить (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.), бессоюзное предложение заменяется на союзное, в результате чего выражается причинноследственная связь между предложениями;
-
(37) хотя вашим высокородиемъ в бытност вашу в нашеи станицы по великодушию вашему где строитца божиеи ц(е)ркви каменного здания местω наsначено, токмо н(ы)н 4 мы всенижаишия раби у вашего высокородия покорнеише просим (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 10),
логическая связь между предложениями эксплицирована союзом хотя , поэтому союз токмо «но, однако» структурно избыточен, но он усиливает значимость описываемой в предложении ситуации, возникшей несмотря на предыдущие обстоятельства (или вопреки им). Возможно, он четче разделяет две громоздкие синтаксические конструкции, устанавливая границу развернутой фразы с союзом хотя ;
-
(38) говорил чтоб быть свободными ... по тому реsону а обявит при случае ω себ 4 не онаго Егора
Буковскаго крестянами но брата ево Сидора Букав-скаго (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 4 об.), вставка, содержащая указательное местоимение, эксплицирует причинно-следственную связь между предложениями;
-
(39) жена ево Матрена в скором времяни потом ж(е) умерла (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 1 об.), посредством употребления наречия уточнена временная последовательность излагаемых фактов для их однозначной интерпретации.
Логическая связь между частями предложения может быть восстановлена в результате изменения порядка слов:
-
(40) чтоб оную совсемъ во ωкончание при-вест в триста в шеsдесят тысячах кирпичах против присланωго от вашего высокородия рисунка в триста въ шездесят тысячах кирпичах (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 – 6 об.),
первоначальный порядок слов нарушал правильное понимание синтаксических связей, поэтому словосочетание с числительным перенесено непосредственно к глаголу, с которым оно связано.
К стилистическим относятся правки, отражающие стремление писца разнообразить речь, демонстрирующие его языковой вкус, например:
-
(41) помянутаго Шацкаго уезду ... покаsаннои Чеботаревъ ... въ покаsаннои промемории обявле-но ... означеннои Михеевъ ... мы именованные в во-исковои дом были призваны i предписаннои Петръ Чеботаревъ ... у иминованнаго нами упомянутого продавца Егора Буковскагω ... оных Петра Чеботарева з женою и з детми ... у означеннаго Егора Бу-ковскаго он Егор Буковскои с реченным Чеботаревым ... помянутои Чеботарев от помянутого от меня Моргунова ... реченного Чеботарева ... предписанного Сидора Буковскаго ... мы вышеимено-ванные ссылаемся на вышеобявленною промемо-рию ... вышеписаннаго ... при допросе не обявлял ... предписаннаго Сидора Буковскаго ... предписан-нои мои крестянин Михеевъ ... на покаsанною бахчу ... вместо вышеписанных старшины Петра Ла-щилина коsака Савелья Моргунова (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 8, л. 3 – 4 об.),
выделенные курсивом слова показывают, насколько широко использовались пишущим воз- можности лексической синонимии; повтор единиц на большом пространстве текста (четыре стороны листа) снят после удаления некоторых фрагментов; там же, где повторяющиеся единицы оказались недалеко друг от друга, произведена замена.
Правки коммуникативно-прагматического характера обеспечивают соблюдение речевого этикета, упрощают восприятие представляемой в документе информации, способствуют усилению воздействия на адресата. Это достигается в результате восстановления порядка слов в этикетных формулах, добавлением этикетных формул либо их элементов к уже использованной формуле, например:
-
(42) всенижаише вашего высокородия вашего покорнеише просим (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.);
-
(43) писано было к любезнеишему вашему родителю Данилу Е 9 ремовичу а нашему высокомилостивому отцу i к[ормильцу] Данилу Е9ремо-вичу (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6);
-
(44) высокородный i высокопочтенный г(о)с-(по)д(и)нъ Войска Донскаго воисковой атаман Д высоком(и)л(о)стивы от(е)цъ и г(о)с(у)д(а)рь нашъ Данило Ееремовичь (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6);
-
(45) тако с почитанием нашим остаясь при од-дании нижаишаго нашего поклона остаясь (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 15),
в (43) и (44) видно, что составитель написал или начал писать имя лица, но, как бы спохватившись, зачеркнул и продолжил с использованием этикетной формулы.
Отметим, что этикетные элементы могут быть и удалены из документа. Например:
-
(46) соблаговолено было бы нам покорнеи-шим в те места ехать (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6);
-
(47) наше покорнеише доношение (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6 об.);
-
(48) от Воиска Донскаго но никакои резолю-цы нам покорнеиши[м] не прислано (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 5, л. 6 об.),
как видим, в тексте одного документа вычеркнуто несколько раз повторенное прилагательное покорнейший – требуемое речевым этикетом наименование адресанта, эксплицирующее его статусные различия с адресатом. Возможно, правка отражает стремление ад- ресанта сделать текст более информативным, упростить для адресата его восприятие, а также избежать лексического повтора.
На упрощение восприятия информации направлена корректировка текста и в следующих случаях:
-
(49) вашему высокородию i Воиску Донскому в семъ веце во всем i само желаемых пребыванеи состоянеи долгоденъственных благополучностеи, и от сопротивноборющих примирных состоянеи и от всевышняго г(о)с(по)да бога всегда присудстствую-щяго в церквах может исходатаиствовать, и от него ж сотворившагω всех, всяческая а в будущем вец 4 о нелишени снабдевающих церковью царствия небесного, от вседержителя г(о)с(по)да бога и спаса на-шегω Iисуса Христа, i всенепорочные матере его всемилостивеишия г(о)сп(о)жи д( 4 )выя Мариi может молитвами сугубо сторицею сугубо исходаи-ствовать (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 7),
в приведенном фрагменте этикетные пожелания перефразированы с использованием общепринятых выражений, что значительно упростило его восприятие. Возможно также и то, что составитель документа счел неуместной для делового текста речевую вычурность.
-
(50) светая божия церковь за ваше высокородие [тако] i Воиску Донскому будет вечно бога молит, о чемъ от нас нижаиших посланы нарочно для прошения нашеи станицы старики ■А^енъ Лащилинъ Савелеи Моргунов в(ашего) в(ысокородия) высоко-м(и)л(о)стиваго отца и г(о)с(у)д(а)ря нашегω всени-жаишия раби М[...] (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 7), здесь также вместо пространной апелляции к церковному и божественному покровительству, которая, по-видимому, была расценена как неуместная в деловом документе, и этикетных выражений оставлены только имена пишущих.
Имеющийся материал свидетельствует о том, что иногда правка связана с отказом от выражения просьбы к вышестоящему лицу:
-
(51) о семъ вашего высокородия i всегω Воиска Донскаго про нижаишия раби всепокорнешие просим нижаишиi рабиi Михаиловскои станицы сторши-на Петръ Лащилинъ, станищнои атаман Е тропъ Гри-горевъ i коsаки (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 9), вычеркнута формулировка просьбы и сопутствующие ей этикетные формулы, оставлены только имена авторов письма (доношения);
-
(52) по самом поб 4 ге их оное вашем[у] благородию всепокорн 4 йше доносимъ чтоб нам все-нижаишим sа которых мы неаднократно sа ними очер 4 ди козаки несколко л 4 т за них коsаки служат, и всепокорн 4 ише просим вашего благородия милостивои до нас всенижайших реsолюцы о семъ вашему благородию всепокорн 4 ише доносим Ми-хаиловскωи станицы станищнои атаманъ Трифонъ Калинен старики и вся станиц 4 козаки (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 4),
правка показывает, что составитель документа несколько раз пытался выразить просьбу к войсковому атаману о благоволении и послаблении казакам, которые несут сверхурочную службу за бежавших казаков, но ограничился только констатацией факта. Определить причины отказа от просьбы затруднительно без знания экстралингвистической ситуации, вероятно, автор понимал нецелесообразность такого обращения, прогнозировал негативную реакцию адресата, невозможность исполнения того, о чем просят, и т. д.
Правка коммуникативно-прагматического типа способствовала усилению воздействующей функции, обусловленной видом документа:
-
(53) а понеже ц(е)ркви божия подаян рачением и подаяниемъ строениемъ совершаютца боголюбивыми християны того ради всепокорнеишия прин[яв] рабскую смелость всенижаише вашего высокородия вашего покорнеише просим (ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 7, л. 6 об.),
вставка имеет характер психологического аргумента, она вводит обращение к религиозным чувствам адресата, вероятно, с целью усилить воздействие на него, поскольку исполнение просьбы адресанта (разрешение на строительство церкви) основано на том, что адресат – боголюбивый христианин и т. д. При этом в самой вставке сначала была попытка написать подаянием , затем выбрано рачением , что смещает смысловые акценты с материальных, на этические.
Заключение
Черновики исторических официальных документов, несмотря на стандартизован-ность структуры и речевой организации, отражают создание документных текстов как творческий процесс. Выделенные типы тек- стовых правок показывают разнообразие мотивов (факторов), обусловливающих выбор тех или иных языковых средств, речевых единиц при составлении официальных документов в провинциальной канцелярии. Помимо необходимости наиболее полно и точно передать суть излагаемых событий, писцы руководствуются также целью создать стилистически совершенный (или близкий к совершенному) текст, соответствующий правилам делопроизводства, официальной коммуникации, общерусским языковым нормам, требованиям деловой речи своего времени. В процессе порождения одного текста и даже одного высказывания эти мотивы действуют в совокупности, хотя могут иметь различную значимость; приоритетность их может и меняться. Дальнейший многоаспектный анализ последовательности этих правок даст возможность реконструкции речемыслительной деятельности составителей документов, а в целом позволит воссоздать эпоху в истории языка сквозь призму человеческого фактора – с учетом языковых и профессиональных компетенций, языкового вкуса, представлений о «хорошей» и «правильной» речи, отражающих тенденции развития русского литературного языка в XVIII веке.
Список литературы Черновой текст как основа реконструкции речемыслительной деятельности (на материале региональных документов xviii В.)
- Алексеев А. А., 1999. Текстология славянской Библии. СПб.: Дмитрий Буланин. 254 с.
- Бахтин М. М., 1979. Проблема речевых жанров//Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. С. 237-280.
- Бонди С. М., 1971. Черновики Пушкина. Статьи 1930-1970 гг. М.: Просвещение. 232 с.
- Векшин Г. В., Хомякова Е. В., 2015. Проблемы представления творческой истории произведения в печатных и электронных изданиях//Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. № 4. С. 22-27.
- Всеволодов А. В., 2016. Черновики И.А. Милютина//Милютинские чтения. Социально-экономическое и культурное развитие России во второй половине ХIХ -начале ХХI века: сб. науч. работ. Вып. VII/ред.-сост. А.Е. Новиков. Череповец: Изд-во ЧГУ. С. 75-92.
- Горбань О.А. и др., 2016. Горбань О. А., Ильинова Е. Ю., Косова М. В., Шептухина Е. М. Жанровые особенности войсковых грамот XVIII в. (по материалам архивного фонда «Михайловский станичный атаман»)//Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. Т. 18, № 4 (157). С. 182-199.
- DOI: 10.15826/izv2.2016.18.4.074
- Егоров А. Н., 2013. Документы губернских жандармских управлений как источник формирования образа провинциального либерала (по материалам Вологодской и Новгородской губерний)//Вестник Череповецкого государственного университета. Т. 1, № 3. С. 34-37.
- Еремин А. И., 2014. Черновики документации русской классической гимназии конца XIX -начала XX в. как источник для изучения истории повседневности//Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. № 19 (141). С. 141-153.
- Жуковская Л. П., 1976. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М.: Наука. 368 с.
- Косивцова А. В., 2008. Лингвопрагматический анализ языковой личности заводчика Н.А. Демидова (на материале частно-деловых писем XVIII в.)//Вестник Тюменского государственного университета. № 1. С. 258-264.
- Косова М. В., 2015. Параметры речевого жанра как модель документного текста//Современная коммуникативистика. Т. 4, № 6. C. 16-19. http://dx.doi.org..
- DOI: 10.12737/16551
- Кубрякова и др., 1991. Кубрякова Е. С., Шахнарович А. М., Сахарный Л. В. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи/отв. ред. Е. С. Кубрякова; АН СССР, Ин-т языкознания. М.: Наука. 238 с.
- Леонов М. И., 2012. Проект программы партии социалистов-революционеров//Вестник Самарского государственного университета. № 2/2 (93). С.101-106.
- Лихачев Д. С., 2001. Текстология (на материале литературы X-XVII вв.). При участии А.А. Алексеева и А.Г. Боброва. 3. изд., перераб. и доп. СПб.: Алетейя. 759 с.
- Норман Б. Ю., 1994. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во СПбГУ. 228 с.
- «Российская грамматика» Антона Алексеевича Барсова/подгот. текста и текстолог. коммент. М.П. Тоболовой; под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М.: Изд-во МГУ. 776 с.
- Тарасова Н. А., 2011. Проблема установления последовательности записей в рукописном тексте Ф.М. Достоевского (на материале романа «Подросток» и «Дневника писателя» за 1876-1877 гг.)//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. № 3 (25). С. 96-106.
- Творческая история. Исследования по русской литературе (Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Гончаров, Островский, Тургенев): ст./под ред. Н. К. Пиксанова. М.: Изд-во «Никитинские субботники». 248 с.
- Тимофеев Л. И., 1987. Слово в стихе. Изд. 2-е, доп. М.: Сов. писатель. 424 с.
- Томашевский Б. В., 1959. Писатель и книга. Очерк текстологии. М.: Искусство. 279 с.
- Фатыхова Э. А., 2004. Нотные рукописи А.К. Глазунова (опыт текстологического исследования): автореф. дис канд. искусствоведения. СПб. 22 с.
- Федорушков Ю. Г., 2018. Фразематический ключ к вербономинальным конструкциям русского языка: мастерская компьютерной фразеографии//Исследовательский журнал русского языка и литературы. Т. 12 (2). C. 209-225. URL: http://journaliarll.ir/article-1-150-en.html
- DOI: 10.29252/iarll.12.209
- Шептухина Е. М., 2017. Речевая репрезентация сферы субъекта войсковых грамот рубежа XVIII-XIX вв.//Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 159, кн. 5. С. 1175-1186.
- Шубникова-Гусева Н. И., 2009. Есенин, Маяковский и другие в работе над текстом (постановка проблемы)//Контекст: Историко-литературные и теоретические исследования. Т. 2008. С. 104-125.
- Щедрина Т. Г., 2008. Публикации или реконструкции? Проблемы текстологии в историко-философском исследовании//Вопросы философии. № 7. С. 130-140.