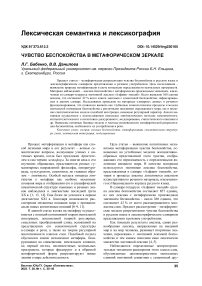Чувство беспокойства в метафорическом зеркале
Автор: Бабенко Людмила Григорьевна, Данилова Виола Валерьевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лексическая семантика и лексикография
Статья в выпуске: 1 т.20, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предмет статьи - метафорическая репрезентация чувства беспокойства в русском языке в лексикографическом словарном представлении и речевом употреблении. Цель исследования - выявление природы метафоризации в свете концепции пересекаемости ментальных пространств. Материал наблюдений - лексика беспокойства с метафорически-производным значением, извлеченная из словаря-тезауруса эмотивной лексики «Алфавит эмоций». Всего выявлено 360 единиц анализа, что составляет 42 % всего класса эмотивов с семантикой беспокойства, зафиксированных в данном словаре. Исследование проведено на материале словарных данных и речевого функционирования, что позволило выявить как глубинные семиологические процессы и модели ментальной интеграции беспокойства с различными явлениями окружающего мира, так и внешние синтагматические модели подобной интеграции, имеющие регулярный характер. Анализ материала осуществлен с использованием комплекса лингвистических методов: компонентного, контекстологического и когнитивно-дискурсивного, моделирования, статистического описания и др. Выявлены основные базовые модели и частные разновидности метафорической репрезентации беспокойства, особенности их употребления в речи.
Эмоции, лексика беспокойства, метафоризация, семантическая структура слова, ментальная интеграция, моделирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147240501
IDR: 147240501 | УДК: 81'373.612.2 | DOI: 10.14529/ling230105
Текст научной статьи Чувство беспокойства в метафорическом зеркале
Процесс метафоризации и метафора как способ познания мира и его результат – вечные семиотические вопросы, волнующие ученых с античных времен, когда был предложен Аристотелем и сам термин метафора. За многие века к его изучению обращались представители разных гуманитарных направлений: философы, литературоведы, культурологи, семиотики, но главным образом – лингвисты. Особый всплеск интереса лингвистов к метафоре как особому механизму познания мира и отображения его в специфической семантической структуре языковых и речевых знаков наблюдался в лингвистике последней трети ХХ в. [1, 13, 14]. Еще более он усилился в первом десятилетии ХХI в. благодаря возможности рассмотрения механизма познания мира с принципиально новых когнитивных позиций [6–9, 11].
В данной статье взгляд на метафору осуществляется с позиций когнитивной теории ментальной интеграции, дополненной теорией регулярных смысловых преобразований слова, основанной на представлении его семантической структуры в словаре и речи, а также на теории регулярной многозначности классов слов. Подобный подход обусловлен самим механизмом метафоры, базирующимся на совмещении, ментальном слиянии, на первый взгляд, несовместимых ментальных пространств, которые фиксируют и в образной метафорической форме репрезентируют новые знания о мире действительности.
Цель статьи – выявление когнитивных механизмов метафоризации чувства беспокойства, основанных на устойчивых моделях ассоциативнообразных представлений этого чувства, отображающих его пересекаемость с определенными явлениями внешнего мира. В качестве материала используется эмотивная лексика беспокойства, представленная в словаре «Алфавит эмоций», которая в процессе анализа дополняется анализом иллюстративного речевого материала, извлеченного из Национального корпуса русского языка.
В словаре-тезаурусе «Алфавит эмоций» группа лексики беспокойства составляет 857 единиц, из них лексика с метафорически производным значением беспокойства – около 360 единиц, что составляет 42 % от всего рассматриваемого множества слов. Предмет рассмотрения – метафорические модели репрезентации чувства беспокойства в русском языке в лексикографическом словарном представлении и речевом употреблении.
Как показали результаты анализа, самая разнообразная лексика, направленная на внешний мир и на мир человека, развивает вторичные значения, пересекаясь с эмотивной лексикой беспокойства и тем самым пополняя само лексическое множество эмотивной лексики [4, 5].
Наблюдаются определенные центростремительные тенденции расширения этого класса слов, обусловленные закономерностями ментальных слияний эмотивной семантики с семантикой дру- гих ментальных пространств, основанные на определенных регулярных моделях их интеграции. При этом вторичные метафорические номинации в лексических множествах, пересекающихся с эмо-тивной лексикой беспокойства, не только способствует его объемному количественному увеличению, но и актуализирует уникальность и многоас-пектность этого класса эмотивной лексики, что имеет большое значение в плане изучения лексического отображения беспокойства и требует специального рассмотрения.
В словаре «Алфавит эмоций» лексикографическое описание каждой группы эмотивной лексики предваряется формулировкой ее типовой семантики, фактически отображающей сущность каждой эмоции, особенности ее внутреннего переживания и внешнего проявления. Типовая семантика чувства беспокойства сформулирована следующим образом:
«Эмоциональное состояние нервного подъема, напряжения, душевного непокоя, обычно не управляемое рационально, в большей степени подсознательное и физиологическое по природе, вызываемое различными чувствами, переживаниями, приятными или неприятными, пустяками, мелочами, а также ожиданием чего-л. нового, непредвиденного, предчувствием чего-л. неизвестного, обычно негативного: неопределенной опасности, неблагоприятного развития событий, эмоционального дискомфорта, неблагополучия. Оно может быть разной степени интенсивности, кратковременным или непреодолимым, не проходящим долгое время, может быть индивидуальным или охватывать большие группы лиц, связанных территориально, социально, экономически или политически, и проявляться в массовых акциях, общественных мероприятиях. Подобное состояние может тщательно скрываться или обнаруживаться в поведении, внешности человека, его испытывающего: в нервной возбужденности, речевой несдержанности, горячности» [3]. Как можно судить по этому описанию, для беспокойства существенными являются следующие когнитивные признаки: нервная напряженность, беспокойство, бессознательность , иррациональность, обусловленность другими эмоциями и различными событиями, предчувствие чего-л. негативного, разная степень интенсивности и темпорально-сти, внешнее проявление в речи, поведении и пр. Этот набор когнитивных признаков фактически формирует прототип чувства беспокойства и имеет важное значение для анализа метафорических смыслов его репрезентации как в плане выявления базовых категориальных признаков ментальной интеграции, так и частных когнитивных признаков, актуализирующих в ассоциативно-образной форме те или иные аспекты протекания беспокойства.
Обратимся к метафоре, в структуре которой при ее моделировании обычно выделяются два основных когнитивных компонента: сфера-донор
(источник) и сфера-мишень (цель). В интересующем нас эмотивном множестве слов второй компонент, связанный с метафорически-производным значением, будет постоянным, отображающим семантику беспокойства, а первый, репрезентирующий сферу источника метафоры беспокойства, – переменным, но не случайным, а отмеченным регулярностью вариантов репрезентации лексикой определенных денотативно-идеографических групп. Это служит основанием выделения парадигмы моделей метафорической репрезентации беспокойства с учетом анализа заполнения первого компонента ментальной метафорической интеграции, т. е. сферы-источника. Результаты анализа показывают, что замещение в метафорической лексике с семантикой беспокойства характеризуется устойчивыми закономерностями, проявляющимися в тенденции лексического варьирования ее замещения по определенной модели, что способствует выделению регулярных повторяющихся моделей развития метафорической семантики беспокойства.
Как показал анализ, модели формирования метафор беспокойства основываются на ментальной интеграции эмотивной семантики с семантикой конкретно-физических проявлений внешнего мира действительности и физиологических проявлений существования человека. Так, а качестве регулярных и частотных вариантов лексических замещений позиции сферы-донора – источника метафорических ассоциаций беспокойства – можно выделить следующую парадигму базовых категорий и воплощающих их лексем:
-
1. Состояние человека: физиологическое состояние организма, болезненное состояние, психическое состояние, состояние опьянения.
-
2. Функциональное состояние природных объектов: повышение температуры объекта, тепловое воздействие на объект, горение, изменение функционального состояния и качества жидкости.
-
3. Движение : колебательное и др. ритмичное движение, начало движения, каузация движения, перемещение объекта.
-
4. Конкретное физическое действие: помещение, разрушение, удаление, уничтожение, прикосновение, давление, исчезновение.
Если посмотреть на перечень приведенных денотативных сфер, «питающих» метафорическими значениями лексику беспокойства, то в нем, по сравнению с общим синопсисом классификации идеографических словарей, просматривается их явная ограниченность, обнаруживаемая в использовании в позиции источника метафоризации чувства беспокойства лексики двух суперкатегорий: состояния и конкретной физической деятельности, внутри которых имеется также предельно ограниченный список базовых категорий [6].
Например, при использовании лексики физиологического состояния человека используются лексемы из трех групп: состояние болезни
( горячка, разгорячённый, лихорадка, лихорадить, зудеть, раздражаться/раздражиться, раздражённый, раздражительный, растравливать-ся/растравиться, бередить, растравлять/растра-вить и др. ); психическое состояние ( пароксизм, психоз, бешеный, невменяемый, забыться, исступленность, судорожный ) ; состояние опьянения ( пьяный, пьянеть/опьянеть, пьянить, опья-нять/опьянить. опьянелый, хмелеть/охмелеть, ох-мелять/охмелить, хмелить ). А в группе функционального состояния природных объектов преимущественно используются те лексемы, которые связаны со стихиями огня и воды. В первом случае выделяются три группы, связанные с процессами горения и нагревания, их проявлением и следствием: повышение температуры объекта ( накаляться/ накалиться, накал, накалённый, разгорячиться, горячиться, разгорячённый, горячка и др.); тепловое воздействие на объект ( накалять/накалить, раскалять/раскалить, горячить/разгорячить, раз-горячать/разгорячить, парить и др. ) ; горение ( разжигать/разжечь, разжигаться/разжечься, распаляться/распалиться, распалённый и др. ). Во втором случае имеет место использование лексики кипения ( кипеть , кипятиться, кипение, раскипятиться; кипучий, клокотать, пениться ) и изменения функционального состояния и качества жидкости ( баламутить/набаламутить, взбаламучи-вать/взбаламутить, взбаламучиваться/взбаламу-титься, мутить/замутить и др.) .
Из сферы «Движение», чрезвычайно разработанной в языке с учетом разных аспектов его интерпретации, привлекаются для номинации беспокойства ограниченное число лексем, относящихся к следующим группам: колебательное и др. ритмичное движение ( трепетать, трепет, содро-гаться/содрогнуться, трястись, потрясаться /потрястись и др. ); начало движения ( всколыхнуться, заводиться/завестись, тронуться, заводной и др. ); каузация движения ( заводить/завести, заводной, всколыхивать/всколыхнуть, сотря-сать/сотрясти и др. ); перемещение объекта ( потрясать/потрясти, потрясённый и др. ) .
Сфера конкретной физической деятельности представлена в метафорической лексике беспокойства незначительно как в количественном, так и в качественном отношении в плане выбора состава групп: помещение ( взвинчиваться/взвинтиться, взвинчивать/взвинтить, взвинченный, сверлить ); разрушение , удаление (развинчиваться/развин-титься, развинченный, раздёрганный, развинчен-нось ); уничтожение ( грызть, душить ); прикосновение ( щекотать, задеть, трогать/тронуть, бередить ) ; давление ( давить ) .
Минимально представлена лексика из сферы универсальных представлений, таких как исчезновение ( теряться, потеряться ) акустическое восприятие (шум, шумиха, шумливый), зрительное восприятие ( неровный, неуравновешенность ) и др.
Итак, обобщая приведенные выше наблюдения относительно выбора лексики для метафорического изображения беспокойства, можно отметить прежде всего количественные тенденции ее состава: ядро поля метафор беспокойства составляют метафоры суперкатегории «Состояние» в двух вариантах: функциональное состояние природных объектов и физиологическое состояние человека, которые фактически составляют около 70 % метафорических единиц с семантикой беспокойства, приядерную зону - «Движение» и «Конкретное физическое действие» - около 25 %. Дальнейшая периферия представлена разнообразными единичными случаями метафорических значений из различных сфер.
Анализ прототипической семантики чувства беспокойства в соотносительности с метафорическим смыслом показывает их интеграцию и взаимодействие как на уровне категориального компонента чувства беспокойства, так и на уровне актуализации аспектов конкретизации его проявления. Так, большая часть метафор беспокойства основана на интеграции семантики состояния, свойственной различным субъектам состояния или различным объектам-источникам состояния. Двуденотативность метафоры в этом случае возникает на основе их отождествления и ментального слияния, что свойственно всем разновидностям метафор, производным от лексики функционального состояния организма человека и природных объектов (см.: кипятиться, горячиться, клокотать ). При этом основную роль в развитии ассоциативно-образного смысла метафоры играют дифференциальные когнитивные признаки исходного производящего слова, которые способствуют интерпретации беспокойства: наглядность, интенсивность, длительность, обусловленность, внешнее проявление и др. (см.: лихорадка, трястись, накалять, распаляться, давить и др. ) .
Следует отметить, что развитие метафорических номинаций с семантикой беспокойства связано в первую очередь с его изображением в аспекте конкретно-физических по природе явлений, характеризующихся яркостью проявления, напряженностью, интенсивностью и динамичностью протекания. Эта когнитивная стратегия объясняет и тот факт, что в ее составе преобладают глаголы (65 %), в меньшей степени представлены существительные и прилагательные, преимущественно отглагольные. В функционально-семантическом аспекте доминирует метафорическая лексика с семантикой внешнего выражения беспокойства (75 %), на остальные группы - эмоционального состояния, воздействия, качества, характеризации беспокойства и др. - приходится всего 25 %.
Метафорическая семантика беспокойства раскрывается в речевом употреблении в контексте, где обычно она конкретизируется. Чувство беспокойства часто ассоциируется с представлением о жидкости, находящейся в стадии нагревания, ки- пения (кипеть, кипятиться, кипение, раскипятиться; кипучий, клокотать, пениться). Ключевая лексема приведенной группы слов - кипеть, основное значение которой - «издавать бурление, клокотать, испаряясь от сильного нагревания, пениться от образующихся при сильном нагревании пузырьков пара», а переносное метафорическое значение - «проявлять с силой, бурно, стремительно какие-л. чувства, волнение, мысли и т. п., словно кипящая и бурлящая вода» [2]. Производный глагол кипятиться развивает аналогичное метафорическое значение: «Волноваться, горячиться, сердиться, проявляя с силой, бурно, стремительно переживаемые чувства, словно кипящая и бурлящая вода». Переносное значение этих глаголов базируется на сопряжении внутреннего эмоционального состояния беспокойства и состояния жидкости, приводимой в физическое состояние нагревания, динамика которого - движение жидкости - сопровождается интенсивностью, повышением температуры, бурлением, образованием пузырьков. Разница переносных значений кипятить и кипятиться - в актуализации категориальных когнитивных признаков: в первом случае - статаль-ного (состояние), во втором - динамического (его проявление), сходство - в их двуденотативности: ментальной интеграции конкретно-физического образа жидкости в состоянии теплового воздействия на нее и эмоционального состояния человека, испытывающего и проявляющего беспокойство. Контексты, в которых используются эти глаголы, обычно содержат комплекс эмотивных номинаций, конкретизирующих состояние волнения человека, порой и актуализирущих их причинноследственные связи. «Вендровский кипятился, обижался и в конце концов написал на Колюшу жалобу» (Д. Гранин) [12]. Данный контекст актуализирует эмоцию-раздражитель - обиду, отражающую причину ситуации: субъект, испытывающий ее, способен впадать в состояние внутреннего волнения. Интенсивность переживаемого беспокойства также передается комплексом эмотивных лексем, отображающих, как под его воздействием человек часто проявляет внешне свое волнение в поведении, речи: кричит, ведет себя агрессивно, становится шумным: «Папа ради этой поездки перенес какую-то важную встречу, и Филипп кипятился, кричал: Что, нельзя было на репродукции показать?!» (Д. Рубина). «Надо было видеть, как кипятился, как гремел, вопиял, громил» (В. Чернов) [12].
Активно употребляются в современной разговорной речи глаголы парить, париться, основные значения которых связаны с отображением теплового воздействия на человека: «парить - 1. подвергать действию пара, кипятка с целью очищения, размягчения; 2. жарг. тревожить, беспокоить, нервировать; париться - 1. подвергать своё тело действию пара в горячей бане; 2. жарг. потеть, томиться, суетиться, нервничать, мучиться, заниматься чем-либо тяжёлым, неприят- ным» [2]. При использовании этих глаголов семантика беспокойства обогащается семантикой теплового воздействия, как бы способствующему изображения усиления беспокойства, интенсивности его протекания. «Ее брови чуть приподнялись, и она резко спросила: — Извини. Тебя это парит?»; «Зачем париться над чужими проблемами, когда можно было их не замечать?» (газ.) [12].
Особое место в метафорическом представлении беспокойства занимает лексика движения, обычно ненаправленного, чаще всего колебательного, ритмичного, такого, как глагол трястись , основное значение которого « Колебаться всей массой чего-л., всем телом, двигаясь слегка из стороны в сторону, обычно беспорядочно » [2]. Его переносное значение сформулировано в словаре так: « Испытывать сильное волнение из-за чего-либо » [10]. В дефиниции не учтена семантика внутренней формы слова, порождающая определенные ассоциации и приводящая к двуденотатив-ности метафорического смысла: совмещению представления о внутреннем состоянии беспокойства, приводящим к его проявлению на физическом уровне к внутренней дрожи, неустойчивости и пр. Обычно глаголы используются для номинации сложных эмоциональных состояний в составе комплекса близких по смыслу эмотивных лексем. Так, чувство беспокойства в сочетаемости с номинациями других эмоций фиксирует в контексте подобный сложный смысл: « Люди тряслись от гнева, беспомощности и мести» (В. Авченко) [12]. Лексема трястись в данном контексте сопрягается с эмоциями злости, беспомощности: трястись от гнева, от беспомощности, от мести.
Таким образом, БЕСПОКОЙСТВО выступает в образе интенсивной эмоции, которая обычно в речи сопрягается с другими чувствами - обидой, удивлением, недовольством, злостью, гневом, отражающими причину ситуации беспокойства, волнения, которая имеет внешнее выражение в поведении, речи, мимике и других ее проявлениях. Специфика чувства беспокойства проявляется в наборе основных и частных моделей его метафо-ризации, позволяющих представить его на основе ассоциативно-образной интеграции в виде кипящей жидкости - горячей, бурлящей, в сопряжении с болезненным физическим и психическим состоянием, с опьянением, соотносимым конкретными физическими действиями разрушения, удаления, прикосновения, давления, сопровождаемым беспорядочной, интенсивной внутренней дрожью.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-1800352.
Список литературы Чувство беспокойства в метафорическом зеркале
- Арутюнова, Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Н.Д. Арутюнова. - М.: Наука, 1976. - 383 с.
- Бабенко, Л.Г. Большой толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты / под ред. проф. Л.Г. Бабенко. - М.: АСТ-Пресс книга, 2007. - 576 с.
- Бабенко, Л.Г. Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики / Л.Г. Бабенко. - Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2021. - 432 c.
- Бабенко, Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л.Г. Бабенко. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 184 с.
- Бабенко, Л.Г. Синопсис (свод) идеографической классификации русской лексики (общая глобальная структура словаря) / Л.Г. Бабенко // Универсальный идеографический словарь русского языка: проспект / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. - М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. - С. 22-42.
- Балашова, Л.В. Русская метафора. Прошлое, настоящее, будущее: моногр. / Л.В. Балашова. - М.: Языки славянской культуры, 2014. - 493 с.
- Баранов, А.П. Дескрипторная теория метафоры / А.П. Баранов; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. - М.: Языки славянской культуры, 2014. - 630 с.
- Будаев, Э.В. Становление когнитивной теории метафоры / Э.В. Будаев // Лингвокультуроло-гия. - Вып. 1. - Екатеринбург, 2007. - С. 16-32.
- Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика / И.М. Кобозева; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филол. фак. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 350 с.
- Кузнецов, С.А. Большой толковый словарь русского языка / С.А. Кузнецов. - СПб., 2000. -934 с.
- Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с англ. А.Н. Баранова, А.В. Морозовой; под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. - М.: УРСС, 2004. - 254 с.
- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. - https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 07.09.2022).
- Скляревская, Г.Н. Метафора в системе языка / Г.Н. Скляревская. - Санкт-Петербург: Наука, 1993. - 150 с.
- Телия, В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира / В.Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. - С. 173-204.