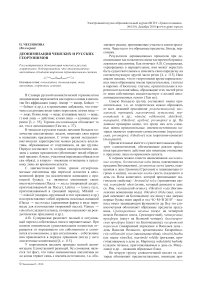Деонимизация чешских и русских геортонимов
Автор: Чеснокова Петра
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингводидактические основы формирования профессиональной компетентности учителя зарубежной школы
Статья в выпуске: 5 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается деонимизация чешских и русских геортонимов. Подчеркивается, что отагионимичные апеллятивы обладают широкими деривационными связями.
Ономастика, деонимизация, оним, апеллятив, геортоним, агионим
Короткий адрес: https://sciup.org/14821610
IDR: 14821610
Текст научной статьи Деонимизация чешских и русских геортонимов
В чешском и русском языках находим большое количество апеллятивных лексем, имеющих свои корни в названиях праздников. С точки зрения экстралинг-вистических характеристик можно разделить апелля-тивы, образованные от геортонимов, на две группы. Первую составляют те, которые непосредственно связаны с самым праздником (обозначают некий обрядовый предмет, блюдо, участника/персонажа обряда или сам обряд), а вторую – имеющие отношение к празднику лишь во временном аспекте.
С лингвистической точки зрения отгеортони-мичные апеллятивы при переходе остаются в неизмененной форме (за исключением написания с прописной буквы), т.е. являются омонимами своих имен-источников (Пасха → пасха (творожный десерт, приготавливаемый на Пасху); Letnice → letnice (суп, приготавливаемый в троицкий период), Mikuláš → → mikuláš (подарок, врученный в этот праздник) и др.) или представляют собой дериваты исконных названий (Пасха → пасочница (деревянная форма в виде пирамиды для изготовления творожной пасхи); Vánoce → vánočka (сладкая плетенка, которую выпекают на рождественские праздники) и др.).
А.В. Суперанская различает полный и ситуативный переход собственных имен в нарицательные. При полном онимическое существительное полностью отрывается от породившего его собственного и становится его омонимом, а при ситуативном – собственное имя привлекается в порядке сравнения (когда у него достаточные коннотации) [4, с. 115].
У геортонимов находим примеры полной деони-мизации. Единственной разницей, без сомнения, является тот факт, что такие омонимичные апеллятивы не до конца теряют связь с именем-источником, т.к. обо- значают реалии, принимающие участие в самом празднике. Чаще всего это обрядовые предметы, блюда, персонажи.
Результатом деривационных процессов при де-онимизации часто является смена частеречной принадлежности апеллятива. Как отмечает А.В. Суперанская, «превращаясь в нарицательное, имя может перестать быть существительным и изменить свою парадигму на соответствующую другой части речи» [4, с. 115]. Наш анализ показал, что от геортонимов кроме нарицательных имен образованы имена прилагательные, глаголы и наречия. «Поскольку глаголы, прилагательные и наречия всегда понятийны, образование этих частей речи от имен собственных свидетельствует о полной апел-лятивации именных основ» (Там же).
Самую большую группу составляют имена прилагательные, т.к. их теоретически можно образовать от всех названий праздников: рождественский, пасхальный, троицкий, масленичный, купальский, первомайский и др.; vánočnί, velikonočnί, dušičkový, masopustnί, třίkrálový, aprίlový, prvomájový и др. По данным примерам видно, что среди них есть сложные имена прилагательные, именем-источником которых является геортоним-словосочетание ( первомайский; prvomájový, třίkrálový ) или геортоним-композит ( masopustnί ).
Прилагательные вместе с существительными образуют словосочетания, обозначающие реалии празд-ника/праздничного действия или имеющие отношение к празднику лишь во временном аспекте.
К первым можно отнести наименования масленичные костры, богоявленская вода (вода, освещенная на праздник Богоявления) , громничная свеча (свеча, освещенная в день Громниц (Сретенья) и защищающая от грома и молни) , ильинская кость (кость съеденного в день св. Ильи животного, которой приписывают магические свойства) / hromničnί svίce (громничная свеча) , svatojánský oheň (огонь, который разводят в день св. Яна, «купальский огонь») , třίkrálový voda (богоявленская освешенная вода) , třίkrálový křίda (мел, который освещают на Богоявление; им пишут над дверью первые буквы имен царей и год “K+M+B 2010” – надпись имеет защищающую функцию) и др. Все эти словосочетания обозначают обрядовые предметы праздника. Средокрестное печенье (пекут на четвертой неделе Великого поста, Средокрестной) , четверговые просфоры (пекут на Великий четверг) , благовещенская просфора (пекут на Благовещение) , кесаретский поросенок (зажаренный поросенок в Васильев день – день Василия Великого, архиепископа Кесарийского); velikonočnί vejce (пасхальные яйца) , vánočnί buchta (см. выше vánočka ) , martinské rohlίky (рогалики, приготавливаемые в день св. Мартина) , mikulášské hubinky (сладкое печенье, приготавливаемые в день св. Микулаша) и др. – названия обрядовых блюд.
Во вторую группу словосочетаний входят те, которые обозначают предметы/явления, имеющие пря- мое отношение не к самому празднику/праздничному действию, а к его временному параметру. Такие словосочетания обозначают погодные условия дня (крещенские морозы, сретенские оттепели, покровские заморозки, введенские грязи; letničnί vátr и др.), другие приметы (новогодние каникулы, рождественские каникулы; vánočnί prázdniny – «рождественские каникулы», svatodušnί housata – «гусята, вылупившиеся в троицкий период»).
Отгеортонимичные нарицательные имена в чешском и русском языках образованы:
-
а) аффиксацией из имени-источника → Святки > > святочник, святочница (ряженные в период святок) , Крестовая неделя > крестовик (хлеб), Пасха > пасочник (прихожанин на пасхальной утреней) ; masopust > > masopustnίk (ряженные в период «святок»/ порося, убитое в этот период), obžínky > obžinek (хлеб, который дарили жнецам после жатвы) , máj > májka (береза или ее верхушка, украшенная лентами, воздвинутая на первое мая) , Družebná neděle > družbance (калачи, которые выпекали на четвертое воскресенье Великого поста) , Štědrý večer > štědrovka (то же, что и vánočka / смесь блюд – еда для прислуги (реже для скота) в канун Рождества) / štědračka (густой суп, который готовят в канун Рождества) и др.;
-
б) универбацией с последующей аффиксацией → пасочная форма > пасочница, пятницкие церкви и мо-настыры > пятницы (т.е. церкви и монастыры, посвященные Параскеве Пятнице) ; svatodušnί housata > svatodušky, hromničnί svίčka > hromničkί, božίhodová polévka (суп, который готовят на Рождество) > boži-hodka, martinské rohlίky > martiny, vánoční buch-ta > vánočka и др.
-
в) деадъективацией (в чешском языке) – эллиптированием словосочетания с последующим переходом прилагательного в существительное: matějská pouť > matějská, štěpánská koleda > štěpánská и т.п.
В чешском языке также наблюдается переход от-агионимичного геортонима (т.е. геортонима, образованного от имени святого – агионима) в апеллятив с последующей аффиксацией, которая является типичной для образования гипокористических форм личных имен. Для мужского рода используются суффиксы -ík, -ίček, -ίnek, для женского – -ka. В чешском языке эти суффиксы имеют деминутивно-мелиоративный характер. Напр. Lucie > lucka, lucky (pl.) (обядовый персонаж; ряженные в день св. Луции девушки), Barbora > barborka, barborky (pl.) (обядовый персонаж; ряженные в день св. Луции девушки / вишневая веточка, срезанная незамужними девушками в день св. Барборы; если она распустится на Щедрый день 24 декабря, то девушка выдет замуж), advent > adventίk (колокольчик, которым звонят каждый вечер только в период адвента), Ondřej > ondřejka (свинцовый шарик, который незамужние девушки кидают в день св. Ондржея на крышу; место его падения показывает, откуда придет жених), Martin > martίnek (пирующий, распущен- ный человек). В некоторых случаях у деривата меняется грамматический род (с исконно мужского на женский): máj (м.р.) > májka (ж.р.) – (береза или ее верхушка, украшенная лентами, воздвинутая на первое мая), Valentýn (м.р.) > valentýnka (ж.р.) – (открытка-признание в любви, даренная на день св. Валентина), Prokop (м.р.) > prokopka (ж.р.) – цыпленок, вылупившийся к празднику святого Прокопа; Jakub (м.р.) > > jakubka (ж.р.) – груша, плоды которой поспевают к празднику святого Якуба, а также плоды этого дерева) и др. Можно добавить, что подчеркнутые дериваты теоретически не нуждаются в таком изменении рода, т.к. обозначают предметы, названия которых среднего рода (kuře – ‘цыпленок‘, přání/přáníčko – ‘открытка‘).
В русском языке подобный процесс обнаруживается реже: Филипп > филипповка (шестирукая кукла-оберег; ее изготавливали женщины в Филиппов день, для обеспечения успеха в домащних работах), Валентин > валентинка (открытка-признание в любви, которая дарится на День св. Валентина).
От геортонимов образованы также наречия ( vánočně, masopustně) и глаголы. В чешском языке глаголы образованы суффиксами: а) -ovat – štědrovat (праздновать рождественский сочельник / есть в рождественский сочельник / колядовать) , koledovat (колядовать) , hodovat (пировать) , štěpánovat (обрядное бросание овса перед церковью в день св. Штепана) , martinkovat (богато пировать), б) -et - stedrovecefet (то же, что štědrovat ), а в русском языке суффиксами: а) -ить – варварить (праздновать, кутить, гулять, пить / сильно морозить [2. Т. I. С. 164] , ссавить (праздновать, пить, гулять (Там же) , николить (праздновать ни-кольщину/пить, гулять, пьянствовать (Там же. Т. II. С. 546); б) -ать – святочничать (праздновать Святки (Там же. Т. VI. С. 160]) , суботничать (праздновать день суботній, какъ жиды и суботники/ поститься по суботамъ (Там же. С. 353); в) - овать - суботствовать (праздновать день суботній, какъ повел h но ветхоза-ветникамъ (Там же. С. 160) , кол(е)ядовать (славить-Христа, ходить о святкахъ по домамъ, съ п h снями, собирая подачки/ побираться, просить милостыню (Там же. Т. II. С. 136).
Семантика глаголов показывает, что изначальное значение празднования конкретного дня в некоторых случаях получило переносное значение празднования вообще. Некоторые из таких глаголов могут образовать совершенный вид ( nakoledovat, vykoledovat ) или даже возвратную форму глагола совершенного вида ( проссавиться, проварвариться, поколядовать; vykoledovat si, nakoledovat si ).
Некоторые отагионимичные геортонимы образуют целые гнезда дериватов [1, с. 7]. Например, коляда > коляда, колядка, колядный, колядский, колядовать, колядование, колядовщик, колядовщица, поколядовать [5, с. 457]; (svatý) Martin > martinkovat (‘богато пиро- вать’), martinkovánί (отглагольное существительное со значением глагола martinkovat), martinek/martίnek (‘пирующий, распущенный человек’), martinské rohlίky (мартинские рогалики – ‘обрядовая выпечка, выпекаемая в день св. Мартина’), martiny, svatomartinské pečivo (то же, что martinské rohlίky), svatomartinská husa (свя-томартинский гусь – ‘жаренный гусь, приготавливаемый в день св. Мартина’), martinská sýpka (‘выплата прислуге, продление или заключение с ней новых договоров в день св. Мартина’) и др.
Итак, чешские и русские геортонимы в процессе деонимизации переходят в апеллятивы без изменений, т.е. апеллятивы являются омонимами своих имен-источников или чаще геортонимы служат производной основой для образования апеллятивов. От отагиони-мичных геортонимов образованы существительные, прилагательные и глаголы, которые в свою очередь составляют целые словообразовательные гнезда.
В целом существенной разницы в процессе деони-мизации геортонимов в чешском и русском языках не наблюдается, т.к. то или иное проявление данного процесса имеет место в обоих языках.
Список литературы Деонимизация чешских и русских геортонимов
- Валенцова М.М. Терминология календарной обрядности чехов и словаков: автореф.. канд.филол.наук. Москва, 1996. 25 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз. Медия, 2006.
- Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988.
- Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. 365 с.
- Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т. Т. 1: Словообразовательные гнезда. А-П. М.: Рус. яз., 1985.