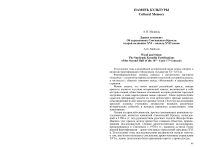Дерево и камень: об укреплениях Смоленского Кремля второй половины XVI - начала XVII веков
Автор: Медведь Александр Николаевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Память культуры
Статья в выпуске: 74, 2022 года.
Бесплатный доступ
Смоленский Кремль, сооруженный по проекту Ф. Коня в конце XVI в., достаточно хорошо изучен исследователями истории фортификации и архитектуры. При этом изучение укреплений, предшествующих каменному Кремлю в Смоленске, началось относительно недавно - в конце XX - начале XXI вв. Именно в это время более ранние укрепления стали изучаться археологами. Статья посвящена анализу современных гипотез о происхождении и конструкции древо-земляных укреплений Смоленска второй половины XVI - начала XVII вв., времен Смуты и польской интервенции. Автором статьи предлагается иная интерпретация некоторых из этих гипотез. На основе описаний укреплений Смоленска периода польской осады 1610 г. впервые делается предположение о том, что каменные стены, частично разрушенные польским войском, позже могли дополняться деревянными укреплениями. Автор отмечает, что описание смоленских укреплений как земляных стен с использованием плетневых конструкций, сделанное послом Папы Римского Антонио Поссевино в 1580-е гг., может совпадать с описанием подобных сооружений, содержащихся в итальянских трактатах по фортификации начала XVII в. Приведены упоминания таких трактатов, ранее не введенные в научный оборот в отечественной историографии. Делается вывод о том, что некоторые деревянные укре пления Смоленского Кремля начала XVII в. не связаны с более ранними фортификационными комплексами, описанными А. Поссевино.
Московское государство, смута, смоленск, смоленский кремль, крепость, фортификация, археологические раскопки, встреча культур, а. поссевино
Короткий адрес: https://sciup.org/149141323
IDR: 149141323 | DOI: 10.54770/20729286_2022_4_99
Текст научной статьи Дерево и камень: об укреплениях Смоленского Кремля второй половины XVI - начала XVII веков
Wood and Stone: The Smolensk Kremlin Fortifications of the Second Half of the 16th- Early 17th Centuries
В последние годы в российской исторической науке возрос интерес к развитию фортификации в Московском государстве XV XVI вв.
Фортификационные сюжеты связаны с различными научными областями - с военной историей, историей технологий, историей культуры, в частности с обменом знаниями между «Московией» и европейскими странами.
Можно сказать, что почти каждый российский кремль, каждая крепость является сгустком исторической памяти, включающей в себя историю знаний, общественных отношений, историю развития городской застройки, и даже мировоззрения наших предков1. Такое переплетение смыслов превращает многие из этих крепостей в зримые символы, объединяющие в себе зачастую разные эпохи. Поэтому исследования кремлей должны учитывать множество нюансов различных исторических событий, в которых пришлось существовать этим памятникам.
Одним из кремлей-символов, прочно занимающих внимание исследователей, является каменный Смоленский Кремль, возведенный в 1590-е гг. под руководством русского зодчего Федора Коня. Именно этот кремль долгое время был главным объектом, привлекавшим исследователей. Однако археологические исследования, проводившиеся в Смоленске с 1970-х гг, выявили остатки более ранней фортификации - древо-земляных укреплений середины XVI в. В последние годы исследователями выдвигается немало гипотез о том, как могли выглядеть смоленские древо-земляные укрепления XVI в., какие технологии были применены при их строительстве.
Обсуждение некоторых из этих гипотез является главной целью данной статьи. Также предварительно отметим, что мы не будем оспаривать выводы, сделанные профессиональными археологами касательно собственно археологических остатков древних смоленских укреплений, так как автор данной работы не является профессиональным археологом. Наше внимание будет сконцентрировано на интерпретации современными исследователями письменных источников, связанных с указанной тематикой.
Долгое время единственными исследованиями древо-земляных укреплений Смоленска были работы Н.В. Сапожникова, под руководством которого в 1978 и 1981 гг. в западной части крепостного вала было заложено два раскопа. Исследователи обнаружили в толще вала остатки деревянных конструкций. В раскопе 1978 г. они представляли собой «остатки деревянных конструкций в виде плах, бревен, жердей очень плохой сохранности»2, а в раскопе 1981 г. были обнаружены следы толстых жердей, ориентированных перпендикулярно продольной оси вала. Н.В. Сапожников связал эти конструкции с существованием здесь неких плетневых конструкций. Он описал их так: «...сначала ставились плетеные из толстых жердей клети, которые заполнялись землей, после этого склоны вала укреплялись с применением рустовой конструкции»3.
Реконструируя смоленскую фортификацию именно таким образом, Н.В. Сапожников руководствовался кратким, но емким описанием смоленских укреплений, данным папским легатом А. Поссе-вино. Он наблюдал эти укрепления в 1581 г. и описал их так: «... состоят из земляного вала и плетней, спрессованных до твердого состояния, как, например, в Смоленске»4.
Впрочем, Н.В. Сапожников предложил еще одну трактовку данных, приведенных А. Поссевино: «До постройки же каменной крепости на валу в некоторых местах стояли корзины, наполненные землей, между которыми были оставлены просветы для орудий. Именно эту картину наблюдал А. Поссевино в 1580 г.»5.
Как в первом, так и во втором случае автор попытался связать свои гипотезы со сведениями о строительстве земляной Китайгородской крепости в Москве. Однако, на наш взгляд, сравнение этих двух объектов выглядит несколько натянуто. Прежде всего из-за слишком малого объема информации о них. И если летописные сведения о строительстве Китайгородской крепости довольно пространны (вплоть до того, что можно выделить три фазы строительства этих укреплений), то описание смоленского «вала» чрезвычайно лапидарно. Хотя гипотеза Сапожникова о корзинах поверху вала не лишена смысла. В трактатах по фортификации XVI в. именно такие корзины-габионы, заполненные утрамбованной землей, часто юо использовались как своеобразные зубцы-«мерлоны», между которыми размещались артиллерийские орудия либо стрелки. Плетневые габионы, получившие в русских источниках наименование «туры», стали активно внедряться в русском войске в середине XVI в.
Предварительные итоги археологических раскопок, проводимых в Смоленске экспедицией Института археологии РАН уже много лет подряд, вызвали всплеск интереса исследователей к проблемам древо-земляных укреплений, существовавших в городе во второй половине XVI - начале XVII вв.6
Ряд версий и гипотез, высказанных в более ранний период исследований, ныне активно пересматривается.
Так, гипотеза Н.В. Сапожникова о плетневых стенах в Смоленске 1580-х гг. вызвала критику крупного специалиста по древо-земляным укреплениям Руси В.Ю. Коваля. Он предположил, что автор раскопок наблюдал остатки трехстенных срубов - фортификационных конструкций, размещавшихся на склонах7. В.Ю. Коваль предположил, что исследованные Н.В. Сапожниковым остатки не имеют никакого отношения к фортификациям, описанным А. Поссевино.
Действительно, крайне сомнительно, что горизонтально расположенные деревянные конструкции могли быть основой для плетня. Плетень имел в качестве основы вертикальные конструкции, соединенные друг с другом при помощи тонких ветвей. Именно такие конструкции мы можем наблюдать на европейских изображениях второй половины XVI - начала XVII вв.
В.Ю. Коваль не только подверг критике гипотезу Н.В. Сапожникова, но и предложил свое видение укреплений, описанных А. Поссевино. В одной из своих новых статей исследователь остановился на описании смоленской стены, данном А. Поссевино, отметив, что фраза папского легата «плетни, спрессованные до твердого состояния» - совершенно необъяснимая. Отвергнув версию о «плетнях» как «габионах» («такие конструкции ему были хорошо знакомы (их использовали в Италии и других странах Европы), и он описал бы их в привычных ему выражениях»), В.Ю. Коваль предположил, что Поссевино описал деревянные срубы, соединенные друг с другом и образующие непрерывную стену: «ведь в полностью земляной насыпи практически невозможно проделать отверстия для пушек, они просто осыпятся и завалят орудия землей. Значит, речь идет не вполне о насыпи, а о древо-земляной конструкции с камерами для пушек. И такая конструкция на Руси в XVI в. уже была известна и применялась - это упоминавшиеся выше стены, рубленные тарасами...»8.
Далее исследователь выдвигает еще один (теперь уже «лингвистический») аргумент в пользу своей гипотезы: «причем все эти срубы были взаимосвязаны друг с другом, иначе говоря, «сплетены» (не здесь ли разгадка латинского «плетня» в тексте Поссевино?)... Сложнее объяснить, почему эти «сплетенные» конструкции назва- ны «спрессованными», но и здесь есть возможность для интерпретации. Если имелось в виду, что срубы Тарасов располагались очень тесно друг к другу (то есть «отверстия для пушек» были очень узкими), то такое размещение можно, наверное, назвать “спрессованным”»9.
Однако, на наш взгляд, ни русский перевод, ни тем более латинский текст не допускают двойной трактовки - папский легат говорил именно о плетеных конструкциях. Вопрос лишь в том, какими эти конструкции были и где они располагались (в верхней части стены, либо являлись поддержкой стены в ее нижней части). А насчет «привычных ему выражений»... Дело в том, что А. Поссевино писал свои записки на латинском языке, а в этом языке слова «габион» (в отличие от итальянского языка этого же времени) не существовало. Поэтому А. Поссевино и описал эту конструкцию так, как ее можно описать по-латыни.
Еще одним очень косвенным аргументом против гипотезы В.Ю. Коваля является другой фрагмент из записок А. Поссевино, где посол описывает еще один тип укреплений Московского государства: «Остальные, сложенные из бревен, скрепленных четырехугольником с землей или песком посередине, выдерживают натиск и удары, но не выносят огня»10. В нашем случае такое упоминание важно еще и потому, что А. Поссевино очень четко различал плетневую и бревенчатую конструкцию русских крепостей второй половины XVI в. Если бы смоленские укрепления были выстроены по схеме Тарасов, то папский легат не преминул бы уточнить, что он наблюдал именно бревна как основу для крепостных стен Смоленска - тем более, что подобные конструкции он видел в других местах. Однако он недвусмысленно упомянул именно плетень, более того, выделил смоленские укрепления в отдельный тип укреплений, отличный от бревенчатых стен, которые он наблюдал в других русских городах.
Мы согласны с В.Ю. Ковалем лишь в том, что трудно однозначно интерпретировать оборот «спрессованные до твердого состояния».
Вместе с тем, итальянская фортификационная практика начала XVII в.11 упоминает сооружения с использованием плетня, которые можно было бы связать с описанием, данным А. Поссевино.
Например, один из вариантов такой конструкции описан итальянским фортификатором Франческо Тензини в трактате, предположительно датируемом 1624 г.12 Конструкция состояла из плетеных корзин-габионов большого размера, забитых землей. Из них рекомендовалось сооружать стены, размещая габионы в несколько рядов. Причем, такое укрепление имело два уровня. Первый представлял собой сплошную стену, а на втором уровне габионы располагались на некотором расстоянии друг от друга, выполняя роль мерлонов. Плетневая конструкция с утрамбованной землей внутри («спрессованной до твердого состояния») могла просуществовать несколько сезонов (если, конечно, она не использовалась в боевых 102
действиях).
Добавим к этому и то, что в итальянской фортификационной традиции, сформировавшейся во второй половине XVI в., использование наполненных утрамбованной землей габионов стало уже вполне распространенным явлением13. Мы не можем полностью игнорировать возможное использование при строительстве древо-земляных укреплений Смоленска европейского опыта, учитывая, что в конце XV и первой половине XVI вв. в Московском государстве работали итальянские специалисты-фортификаторы, сооружавшие не только каменные, но и древо-земляные укрепления14.
Здесь имеет смысл вернуться к упоминанию В.Ю. Ковалем го-родней-тарасов как возможной основы смоленских укреплений 1581 г. Для доказательства своей гипотезы о том, что А. Поссевино имел ввиду именно конструкции из бревен, исследователь приводит сведения из источника, относящегося к 1610 г: при обходе Смоленского Кремля «ночная стража задержала тут некоего “детину”, самовольно устроившегося ночевать в такой городне»15.
Исследователь однозначно связывает городни, упоминавшиеся в начале XVII в., с укреплениями, описанными А. Поссевино в 1580-е гг.
Не могли ли эти городни быть частями другой, более поздней крепости, возведенной уже после пребывания Поссевино в Смоленске?
Но что это могла быть за крепость? Возможно, эти деревянные городни были частью совершенно другого укрепления - каменной стены Смоленска, разрушившейся именно в этом месте после летних штурмов 1610 г. Известно о практике возведения дополнительных древоземляных укреплений в некоторых каменных крепостях. Также очевидно, что восстановление каменных стен требует времени, средств и материалов, а вот создание древоземляных (или земляных и деревянных) преград было вполне обычной практикой как в эпоху средневековья, так и в более позднее время.
Аргументом в пользу этого предположения может быть сам факт обследования стены стражниками. Следует заметить, что смоленские стражники упоминаются в цитируемом сборнике документов по разным поводам очень часто. Но везде эти упоминания связаны исключительно с каменной крепостью (на это указывают «привязки» к башням, пряслам между башнями и т.п.): именно ее они должны были охранять и постоянно проверять наличие на стенах и башнях подозрительных людей. Здесь была такая же ситуация -«детину» Кузьму Евдокимова стражники поймали в городне у Пятницких ворот. Но гораздо важнее, что в источнике говорится о том, что Евдокимов «жил здесь у пролому [Выделено нами. - А.М.] у шелашех»16.
Не были ли городни средством временного закрытия пролома каменной стены?
Еще одним (признаемся, очень косвенным) доказательством существования деревянной стены, встроенной в стену каменную, может служить упоминание в цитированном источнике «нижнего боя»: «пришод той детина в городню... в нижней бой...»17. Если считать, что древоземляные укрепления, в которых ночевал Кузьма, были полноценными городнями, частями древо-земляной стены, то следует признать, что у этих укреплений было по меньшей мере два боевых уровня - нижний и верхний. Из этого в свою очередь следует, что за каменными Пятницкими воротами располагалась довольно мощная (двухуровневая!) линия древо-земляных укреплений.
Но существовала ли такая линия в реальности? Весьма сомнительно. Тем более, что есть свидетельство гетмана С. Жолкевского, который отметил: «За стеной тут же непосредственно был старый вал...»18.
Итак, очевидно, что никаких видимых хорошо сохранившихся деревянных стен уже не было, они частично разрушились и заплыли землей, которой были заполнены, превратившись в то, что Жол-кевский назвал «валом». Этот «вал», по утверждению Жолкевского, был довольно высоким (около 6 м), однако в нем явно не имелось «нижнего боя».
Интересно отметить, что вал использовался защитниками Смоленска во время наиболее интенсивного штурма города летом 1610 г. В августе 1610 г. некий поляк, находившийся в расположении польского войска и наблюдавший боевые действия непосредственно из лагеря осаждающих, отметил, что русские «на пространстве от одной малой башни до другой, возобновили находящийся там старый вал и обделали землю вышиной в две сажени, поставили на валу деревянные, насыпанные землей срубы и в них в середине поставили несколько больших пушек, а по бокам поставили четыре меньших...»19. В этом описании важно несколько моментов:
-
1. древний вал был надсыпан русскими (по крайней мере, какая-то часть вала) и на вершине была сооружена линия из городен, засыпанных землей;
-
2. между клетями городен располагались пушки;
-
3. эта линия обороны имели лишь один, верхний боевой уровень.
Тогда что же должно понимать под «нижним боем» в городне, где ночевал Кузьма Евдокимов? «Нижний бой» упоминается в документах по обороне Смоленска достаточно часто. Но эти упоминания связаны исключительно с каменной крепостью. Если принять как данность, что деревянная городня прикрывала пролом в каменной стене, то она располагалась как раз на уровне ее нижнего боя, то есть воспринималась современниками как часть нижнего боевого уровня частично разрушенной каменной стены.
В таком случае деревянные сооружения 1610 г, упомянутые в сюжете о Кузьме Евдокимове, не имеют никакого отношения к укреплениям XVI в., виденным А. Поссевино. Возможно, некие городни 104
были сооружены уже после августовского штурма осенью 1610 г. и прикрывали бреши в стенах на уровне земли.
Соответственно и гипотеза В.Ю. Коваля о том, что А. Поссевино в 1580-е гг. наблюдал именно городни (или их вариант - «тарасы»), нуждается, как минимум в дополнительных доказательствах.
Причем деревянные укрепления в Смоленске отнюдь не представляли собой нечто неизменное с 1581 г. Например, в 1609 г. был выявлен факт кражи нескольких городен с каких-то укреплений20. Также отметим, что бревна с городен продавались еще в 1608 г. - покупатели этих бревен стали смоляне в количестве более 15 человек. Причем продажа бревен с укреплений, похоже, велась централизовано: деньги шли в государственную казну через некоего «Солтана Охматова» и целовальника.
О том, что деревянные укрепления в Смоленске начала XVII в. не только существовали, но и активно обновлялись и ремонтировались свидетельствует тот факт, что в октябре 1610 г. власти организовали инвентаризацию леса, имевшегося в городе21. Причем, в сферу внимания чиновников попал «избной лес»: «шестьдесят бревен трех и полутретя сажен сажен нового лесу да старого лесу изб-ново... да на дворе два иструбишка избные в одном иструбе» и так далее. Для чего требовалось проводить такое «обследование»? Вероятно, этот лес планировалось использовать для создания городен или стен, которые должны были закрывать бреши, образовавшиеся после летних штурмов Смоленска, либо для городен, размещавшихся на старом валу. Неслучайно описывался не только крепкий лес, но и гнилой, который нельзя было использовать при строительстве.
Таким образом, известные на данный момент письменные источники не позволяют в полной мере подтвердить гипотезы, высказанные В.Ю. Ковалем.
Возможно, большую ясность в проблему реконструкции укреплений Смоленска второй половины XVI в. внесут данные археологических исследований, которые активно ведутся в городе экспедицией Института археологии РАН.
И, конечно же, эти исследования должны дополняться данными корректно интерпретированных письменных и изобразительных источников. Ведь историческая память - понятие широкое.
Список литературы Дерево и камень: об укреплениях Смоленского Кремля второй половины XVI - начала XVII веков
- Ershov, I.N., Krenke, N.A. and Ganichev, K.A. K voprosu o trassirovke i datirovke srednevekovykh oboronitelnykh sooruzheniy Smolenska v rayone Avraamiyevskogo monastyrya [Laying-out and Dating of Medieval Defensive Constructions near the Avraamy Transfiguration Monastery in Smolensk.]. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii, 2020, no. 260, pp. 340–354. (In Russian).
- Koval, V.Yu. K poiskam “italyanskogo sleda” v drevo-zemlyanoy fortifikatsii Rusi [Searching the “Italian Trace” in the Wood and Earth Fortification of the Medieval Russia.]. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii, 2022, no. 267, pp. 410–418. (In Russian).
- Koval, V.Yu. O fortifikatsii srednevekovogo Smolenska [On the Fortification of Medieval Smolensk.]. Kray Smolenskiy, 2019, no. 2, pp. 107–110. (In Russian).
- Koval, V.Yu. Problemy izucheniya drevo-zemlyanoy fortifikatsii srednevekovogo Smolenska [Problems of Studying the Earth-and-Timber Fortifications of the Medieval Smolensk.]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8: Istoriya, 2020, no. 4, pp. 132–160. (In Russian).
- Koval, V.Yu. Snova o fortifikatsii Smolenska v XVI veke [Again about the Fortification of Smolensk in the 16th Century.]. Arkheologiya Podmoskovya, 2022, no. 18, pp. 164–173. (In Russian).
- Medved, A.N. Drevo-zemlyanyye ukrepleniya v Italii XVI v. – stanovleniye traditsii [Wood and Earth Fortifications in 16th-Century Italy – Establishment of the Tradition.]. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii, 2022, no. 267, pp. 396–409. (In Russian).
- Nosov, K.S. Italyanskoye vliyaniye na russkoye oboronitelnoye zodchestvo [The Italian Influence on Russian Defensive Architecture.]. Voyenno-istoricheskiy zhurnal, 2009, no. 5, pp. 46–51. (In Russian).
- Nosov, K.S. Italyantsy i “italyanizmy” v russkom voyennom zodchestve: Vklad inostrannykh masterov v stroitelstvo krepostey i drugikh oboronitelnykh sooruzheniy Velikogo knyazhestva Moskovskogo (konets XV – pervaya polovina XVI v.) [Italians and “Italianisms” in Russian Military Architecture: The Contribution of Foreign Masters to the Building of Fortresses and Other Defensive Installations of the Grand Duchy of Muscovy (End of the 15th Century – First Half of the 16th Century).]. Voyenno-istoricheskiy zhurnal, 2020, no. 3, pp. 84–93. (In Russian).
- Nosov, K.S. Oboronitelnyye sooruzheniya Moskovskogo Kremlya epokhi pravleniya Ivana III: Istoriko-arkhitekturnyy ocherk [The Defensive Structures of the Moscow Kremlin in the Reign of Ivan III: A Historical and Architectural Essay.]. Voyenno-istoricheskiy zhurnal, 2020, no. 10, pp. 62–74. (In Russian).
- Nosov, K.S. and Medved, A.N. Dve kreposti Petroka Malogo – Sebezh i Pronsk, 1535 god. Fakty i predpolozheniya [Two Fortresses by Petrok Maloy – Sebezh, and Pronsk, 1535. Facts and Assumptions.]. Arkheologiya Podmoskovya, 2020, no. 16, pp. 415–424. (In Russian).
- Pepper, S. Sword and Spade: Military Construction in Renaissance Italy. Construction History, 2000, vol. 16, pp. 16–32. (In English).
- Pronin, G.N. and Sobol, V.E. Oboronitelnyye ukrepleniya Smolenska kontsa XVI – XVII vv. u Molokhovskikh vorot [Smolensk Defensive Fortifications near the Molokhovsky Gate (End of the 16th – 17th Centuries).]. Smolensk, 2012, 117 p. (In Russian).
- Sapozhnikov, N.V. Istoricheskaya topografiya Drevnego Smolenska [Historical Topography of Medieval Smolensk]. Smolensk, 2016, 192 p. (In Russian).