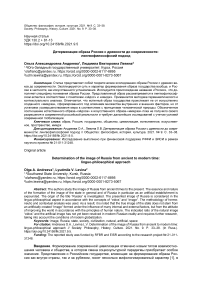Детерминация образа России с древности до современности: лингвофилософский подход
Автор: Андреева Ольга Александровна, Левина Людмила Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой теоретические исследования образа России с древних веков до современности. Эксплицируется суть и характер формирования образа государства вообще, и России в частности, как искусственного установления. Исследуется происхождение названия «Россия», что дополняет специфику понимания образа России. Представленный образ рассматривается в лингвофилософском аспекте в соответствии с понятиями «эйдос» и «имидж». Применяется методика герменевтического и контекстуального анализа. Отмечается, что истинный образ государства проистекает не от искусственно созданного «имиджа», сформированного под влиянием множества внутренних и внешних факторов, но от установки усовершенствования мира в соответствии с принципами человеческой природы. Обозначенное соотношение естественного образа-«эйдоса» и искусственного образа-«имиджа» пока не получило своего разрешения в современной российской реальности и требует дальнейших исследований с учетом условий современной глобализации.
Образ, Россия, государство, общество, цивилизация, естественное, искусственное, пространство, имидж
Короткий адрес: https://sciup.org/149138717
IDR: 149138717 | УДК: 130.2+81-13 | DOI: 10.24158/fik.2021.9.5
Текст научной статьи Детерминация образа России с древности до современности: лингвофилософский подход
Funding: The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 21 -01131248.
Введение. Формирование современной цивилизации отмечено новым типом взаимоотношения человека и общества, в котором смена социокультурной парадигмы приобретает особое значение. Представления о Российском государстве, влияющие на формирование образа России как внутри страны, так и за рубежом, носят несколько мифологизированный характер [1], в то время как именно Россия может являть собой социокультурное пространство, в котором могли бы успешно реализовываться духовные усилия человека, направленные на развитие и освобождение. Современному индивиду, особенно представителю молодого поколения, требуются иные условия для реализации запросов о своих духовных истоках, к которым восходит современная культура. Способность людей меняться и изменять внешний мир в соответствии с внутренним образом осуществляется ныне в совершенно ином цивилизованном обществе. Возрастающая взаимозависимость человека и созданных им установлений в виде законов, учреждений, государств вызывает необходимость поиска свободы и такого общественного пространства, где упорядоченное правовое поведение способствовало бы нахождению смысла, адекватной оценке полученного духовно-практического опыта соответственно идее Добра, Блага, Истины. Становление современной личности мыслится как рефлективный поиск соответствия закона «естественного» и закона установленного. Взаимосвязь «совершенство человека – совершенство общества» делает актуальными вопросы о достижении человеком и государством состояния просвещенности. На первый план выходит понимание «образа» в сфере «культурной политики», способной заниматься организацией современных общественных отношений и реализацией главных ценностей.
Исследование трансформации образа России на рубеже смены социокультурной парадигмы требует более глубокого понимания некоторых ключевых понятий, выходя за рамки общепринятого «имиджа». Для этого необходимо обращение к античным источникам, дающим возможность толкования понятий государства, его образа, становления, представлений о государственном устройстве и т. д. Первые исследования понятий государства, образа, представления и становления восходят к античности, к философским трудам Аристотеля и Платона.
О появлении и формировании названия Российского государства с древних времен до средних веков речь идет в трудах А.В. Назаренко, М.Я. Сюзюмова, Б.М. Клосса и др.
В числе современных авторов, занимающиеся методологией семиотико-герменевтического анализа образа России, следует назвать С.А. Гончарова, О.М. Гончарову, И.М. Богдановскую, Ю.Л. Проект и др.
Исследование понятий «образ» и «имидж» проводят А.А. Гравер, Е.Б. Шестопал. Достижение состояния просвещенности в современном мире исследуется в работах О.А. Андреевой.
М.А. Коломенский рассматривает формирование международного имиджа современной России. О проблемах формирования и реализации социальной политики Российского государства речь идет в работе А.И. Левина, Н.Е. Татаренко. Исследование относительно изменения образа России в условиях современной глобализации проводится А.И. Юрьевым.
В ходе исследования предполагается решение следующих задач:
-
1) рассмотреть происхождение названия «Россия»;
-
2) определить и эксплицировать ключевые понятия «образ», «государство», позволяющие раскрыть специфику формирования образа России на протяжении нескольких веков;
-
3) проанализировать понятие «образ» в значениях «эйдос» и «имидж» в соотношении естественного и искусственного;
-
4) выявить специфику образа России соответственно ключевым понятиям.
Результаты и обсуждение . Рассматривая происхождение названия «Россия», следует обратиться к исследованиям М.Я. Сюзюмова [2], где говорится о том, что название «Ρώς» (рос) встречается у византийских авторов задолго до появления русских. Согласно М.Я. Сюзюмову, первые упоминания о народе, который называл себя «русь», поразили византийцев сходством с греческим словом ῥϲύϲιϲς (красный) и объяснили это название оттенком цвета кожи. И хотя у византийских авторов сведения о русском народе появляются не раньше IX в., церковно-схоластическая литература упоминает Ρώς с самого возникновения христианства и связывает с апокалиптическими событиями. При этом название «Ρώς» в греческом переводе Библии связывается с пророчествами о конце света. Другими словами, интерес к загадочному народу Ρώς и даже некоторого рода страх были вызваны у византийского населения эсхатологическими образами, что уже свидетельствует об изначальной специфике представлений о России. Также автором отмечается, что корень «рус» нигде не употребляется у византийцев, тогда как в русских летописях не прослеживается название «рос» [3]. И хотя в обычае византийских авторов было наименовывать современный им народ античным или библейским названием, после принятия русскими христианства сопоставление с библейским «Ρώς» было ими отвергнуто. Тем не менее, данное название уже закрепилось в официальных и церковных документах и, как следствие, чиновниками императорских канцелярий было изобретено и утверждено название страны Ρωϲία, которое и закрепилось в греческом языке, начиная с IX века. Постепенно, согласно исследованиям М.Я. Сюзюмова, название «Ρωϲία» перешло в русский язык посредством официальных актов Византийской империи и через церковную и греческую письменность. Изначально (Иваном
Грозным) слова «Росия» и «Росийский» писались через одну букву «с», затем, начиная с XVII века, произошло удвоение «с» по аналогии с «русский». Таким образом, под влиянием библейской транскрипции в IX веке в русский язык к собственным названиям «Русь», «русский» добавилось слово «Росия», впоследствии «Россия».
Основываясь на лингвистическом анализе, следует отметить особенности западноевропейской (в том числе латиноязычной) традиции слова «Русь». А.В. Назаренко отмечает разнообразие форм данного слова. Ссылаясь на византийские источники, которым известно только два аллографа: ‘Ρώς (или его склоняемый вариант ‘Ρώσ(ι)οι’ и ‘Ρούσ(ι)οι’), А.В. Назаренко отмечает множество вариантов в западноевропейских источниках: «д.-в.-н. Rȗzâra, лат. Rhos, Ruz(z)I, Rugi, Ru(s)ci, Ruszi, Ruizi, Ruzeni, Rus(s)I, Rut(h)eni, Rutuli, Ruzarii, Reuteni, с.-в.-н. Riuzen, Rȗzen, Re-uszen, Rauszen и др. (везде nominativus pluralis)» [4, с. 14].
Рассматривая разные предположения относительно языковых формантов слова, следует отметить, что различные варианты названий соотносились с образом России не в политическом плане, а только в этническом. Несмотря на множественность графических изображений, отмечаемых А.В. Назаренко, существовавшие формы этнонима «русь» представляются вполне упорядоченными и логичными. Автор прослеживает название «русь» среди иноязычных (немецкоязычных, франкоязычных и др.) форм, в том числе древних [5, с. 14–31], сложившихся на основе латыни. Гипотезы и дискуссии об этимологии слова «русь» сопряжены с различными лингвистическими интерпретациями и проистекают из анализа латиноязычных источников с анализом форм латинского и раннеевропейских языков германской, романской и других групп. При этом отмечается, что, несмотря на свое широкое с географической точки зрения распространение, вариант Rusci/Ruscia представлен почти исключительно текстами из стран Центральной Европы (немецкими, чешскими, венгерскими), а романоязычными лишь эпизодически [6, с. 39–40]. Для последних как типичная отмечается форма Rus(s)i/Rus(s)ia. Например, в итальянских памятниках: в сочинениях кремонского епископа Луидпранда, в «Житии блаж. Ромуальда Петра Дамиани (1030-е гг.) и др. [7, с. 40]. Вариант Rus(s)i/Rus(s)ia признается доминирующим в текстах английских и англо-нормандских авторов, например, «Житие св. Фомы Бекета», свитках королевского казначейства периода правления Генриха II («Ysaac de Russia»), Великая Хроника Матфея Парижского и др. Варианты с двумя «s» отмечены во французской эпической поэзии. Внимание обращается на часто встречаемую «о» в корне: «pres de Rossi», Roissie, Roussi [8, с. 41]. Последние варианты допускаются как возникшие под влиянием грекоязычных Ρώς, Ρωϲία.
Рассуждения приводят к тому, что помимо интернационализации латинского слова Ruscia, в XII–XIII вв. широкое распространение получила новая форма этнонима «русь» Rut(h)eni, Rut(h)enia. Такой вариант установлен, например, в «Аугсбургских анналах» (начало IX в) – «rex Rutenorum», после чего быстро распространяется в латиноязычной письменности всей Европы. Глубокий и последовательный анализ А.В. Назаренко подводит к тому, что название Руси Rut(h)eni/Rut(h)enia относится к широкому классу «ученой» этно- и топонимии средневековья, которая заменяла реальные названия заимствованиями, как правило, из античной ономастической номенклатуры по принципу либо той же территориальной приуроченности, либо большей или меньшей созвучности [9, с. 43].
Несмотря на то, что проблема происхождения названия «Россия» носит историко-лингвистический характер и не является до конца исследованной, выявленные пути и факторы формирования названия Российского государства способствуют лучшему пониманию и ориентированию в процессе изучения образа России в связи с западноевропейской культурой, роли Российского государства в сфере социокультурной политики, а также дополняют философское понимание образа-«имиджа» в данном исследовании.
Начиная с античности, человек предпринимает попытки осознать и осмыслить условия своего бытия в обществе. Овладение политическим искусством для софистов заключалось в том, чтобы сделать первые общества постоянными и безопасными вследствие установленных законов. Обращение к установлению сущности взаимодействия сфер естественного (природного) и искусственного (установленного) в процессе формирования культуры может выявить суть образа государства. Идея постижения гармонии и целесообразности мира разграничивает природное и установленное [10]. К последнему относятся закон, право и государство в целом, являющие собой результат умопостижения, рефлексии, воплощения в образе своих представлений о существовании мира. У Аристотеля прослеживается стремление осмыслить и определить степень взаимодействия естественного и искусственного. Согласно Аристотелю, для философа важно искать источник связи следствия с его причиной не только в природе, но и в мышлении [11]. Акт мышления, по Аристотелю, сопровождается чувственными образами, что свидетельствует о двух сторонах разума: деятельной и творческой. «Фюсис» (природа) человека – это «логос» и «по- лис». Разумное участие человека в жизни города, государства («полис») проистекает из его внутреннего изображения, представления о чем-либо, то есть образ – εἷẟoς (эйдос), ὶẟέὰ (идея), работу над которым необходимо совершить, давая тем самым новое качество существования.
Стоит затронуть вопрос об отношении вещи и ее наименования. Присвоение имени, представляющего собой своеобразное орудие для речи (όργανον), осуществляется в силу объективного закона (νόμος) и только «законодателем», «творцом имен» или учредителем. Поскольку орудие назначается от природы, то законодатель может придать «не какой угодно образ, но такой, какой назначен природой» [12]. Платон различал государство как идею , то есть идеальное государство, и существующее в реальности государство. Утопическая модель государства у Платона соотносится с идеей справедливости: «сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом» [13]. Согласно Платону, государство, основанное сообразно природе, основывается на четырех добродетелях, внушаемых законодателем путем воспитания: мудрости, мужестве, рассудительности и справедливости [14, с. 157– 159]. Следуя такому природному образу, путем умеренных переживаний, продуманно направленных «с помощью разума и правильного мнения», можно получить идеальное государство. Образ государства, следовательно, становится умопостигаемым, конструируемым усилиями ума и духа искусного мастера, переходя от εἷẟoς (эйдос) к осмысленному образу-изображению εἰϰών (эйкон). В связи с этим в ходе исследования изменения образа России необходимо понимание разграничения образа-по-природе и искусственно установленного образа (имиджа) в сознании индивида посредством образования, воспитания, СМИ и т. д.
Для Средневековья, представляющего мир как ens creatum , характерна попытка определения человеком своего духовного и материального воплощения. В Богословских трудах Августина прослеживается идея ознакомления с чем-либо не через образы, доставляемые органами чувств, а через внутреннее созерцание, «представляющее нам созерцаемое в подлинном виде» [15, с. 165]. Сущее в эту эпоху не просто умопостигаемо, оно является объектом чьего-либо знания. Согласно Николаю Кузанскому, познание становится деятельностью, направленной на развертывание Логоса. Именно в данный период в России определяются по большей части границы государства, закладываются этнокультурные основы будущих наций и национальных языков, формируются базовые ценности и христианские идеалы, богатая культура. В условиях сложившегося Московского государства формируется образ России и закрепляется ее название.
В XVII столетии, называемом в философии Новым временем, складывается новое понимание общественной реальности – политическое мышление. Хотя Россия отличается от западноевропейских стран своеобразием путей развития, можно отметить некоторое соответствие философским представлениям эпохи. В России в XVII веке произошло расширение сословных прав и привилегий дворянства. Искусственное «тело», которым у Гоббса предстает государство, обладает всеми свойствами физического организма: питание – изобилие и распределение предметов, необходимых для жизни, кровь – деньги, колонии – дети и т. д. [16, с. 191]. Нарушение одной из функций может привести к болезни или гибели. Для России данного периода характерно вовлечение в оборот новых земель, начало формирования общерусского рынка, укрепление феодально-крепостнических порядков. Новоевропейская действительность на этом этапе связана с техникой, производством, конструированием новой модели общественной жизни, распространением знания (книгопечатание). В России возникают мануфактуры, строится множество городов в освоенной Сибири, развивается книгопечатание, открываются школы и первые университеты, появляется литература светского и демократического характера. Благодаря распространению хронографов осознается и осмысливается новый образ Московского государства и т. д.
Не менее важным представляется исследование становления образа России и факторов, оказавших влияние на его формирование, придерживаясь при этом мысли о «естественности» образа-«эйдоса» и о его характере искусственного конструкта в качестве «имиджа». Такое разграничение позволяет исследовать поиск путей разрешения противоречий в общественном пространстве в сфере политических, социальных, экономических проблем в мире культуры с точки зрения «духа» общества, представленного «народом» или «нацией» (Ш. Монтескье). «Взаимодействие физических и моральных причин в характере нации определяет достижение ею культурного состояния» [17, с. 73]. Образ того или иного государства как социального организма проистекает из гармоничного соотношения физических факторов (географическое положение, климат, почвы и т. д.) и моральных факторов, сложившихся под влиянием естественных: законы, обычаи, религия и т. д. В ходе развития образ государства будет складываться под воздействием моральных причин, принадлежащих стихии культуры. Подобно другим представителям эпохи Просвещения, Монтескье считал, что «физические причины все более контролируются и направ- ляются воспитанием…» [18, p. 419]. Под влиянием проникновения в Россию идей западноевропейского Просвещения активизируется общественная мысль. Исследование философской мысли о различии Гражданского Общества и Политического Общества и о том, что простонародье, освобожденное из рабства, имеет право на гражданскую свободу, но не политические права, приводит к сходству общественно-политических процессов в России и в западноевропейских странах. Политические установки просветителей более соотносятся с их принадлежностью к буржуазному классу и относят власть дворянства к естественной из «посредствующих и подчиненных властей» монархического правления. Распространение научных знаний, открытие учебных заведений западного образца сближает Россию с западноевропейскими государствами. В целом происходящие в российской действительности изменения соответствовали просветительским представлениям о положительных законах, которые не должны были противоречить общему духу народа (климат, нравы, религия, принципы правления и др.) Рассматриваемая Платоном и Аристотелем проблема формы государства в эпоху Просвещения приобретает еще большую значимость. Все просветители сходились в том, что были против произвольных правлений, т. е. деспотии.
Еще у Платона прослеживается мысль о том, что идеальное государство должно быть закрытым, чтобы ложные ценности не проникали в умы населения, и небольшим, чтобы можно было его эффективно контролировать. Специфика Российского государства в XIX в. в том, что оно представляло собой большую Империю, в которой на фоне подъема национального самосознания происходило бурное развитие общественно-политической мысли, и это удаляло Россию от образа идеального государства. Государство функционирует как искусственный конструкт, как общественный и политический организм, который законодательство наделяет движением и волей. Форма (также определяемая у древних греков как εἷẟoς) общественно-политической жизни России существенно отличалась от западноевропейской, более передовой.
Большими территориальными размерами, порождающими проблему эффективного управления, объясняется и некоторое отставание России от стран Европы в начале XX в. Более «цивилизованное состояние» других стран объяснялось ведением колониальной политики и быстрыми темпами модернизации. Но насколько целесообразно соотнесение цивилизации с господством, порабощением, эксплуатацией, построенных на социальных и экономических противоречиях групп людей, безмерно использующих политическую и техническую власть, способствующую возникновению неразрешимых противоречий? Такая политическая власть лишает прогресс науки и искусства возможности благотворно влиять на развитие всего общества, каждого индивида.
В XXI столетии остается актуальным и открытым вопрос о достижении государством в целом и человеком в частности состояния просвещенности, экспликация понятия которого дает более глубокое понимание нежели «цивилизованность», «образованность» и «культурность». Попытки определения пути поиска «естественного» закона и установленного пока не нашли своего разрешения в России. Информационно-зависимый образ современного бытия скорее отдалил человека от остальной природы. А образ демократического государства, состоящего из трех частей: трутней, богачей и народа, изображался Платоном в негативном ключе, как непригодная и пагубная форма правления [19, с. 314–315]. Современное государство, и Россия в том числе, призванное служить достижению гармонии, скорее ограничивает пространство для мысли и пытается манипулировать происходящими глобальными процессами из политических соображений. Речь идет об «антропологической катастрофе», назревающей постепенно и выражающейся в отсутствии «живого сознания», действительной мысли, возрастающей способности людей потреблять и постепенно сходящего на нет принципа «cogito ergo sum» [20, с. 23]. Тем не менее, образ современного государства соотносится в нашем понимании с пространством, которое есть пространство разумного законопорядка, гласности, обсуждения, взаимотерпимости, «пространство для свободы интерпретации собственного испытания» [21, с. 19]. Специфика российского пространства в данном контексте не столько в его географической обширности, сколько в возможности осуществления диалогического цивилизационного и культурного взаимодействия. Это пространство, соответствующее современным аспектам взаимопонимания, благодаря «смысловым глубинам», по М.М. Бахтину, культуры прошедших столетий.
Выводы. Полученные результаты исследования позволяют дополнить понимание сути и характера формирования образа российского государства. История происхождения названия «Россия» свидетельствует о со-бытии с западноевропейской культурой. Суть понятия «образ» имеет истоки в античном слове εἷẟoς (эйдос), выражающем внутреннее представление, работу над которым необходимо совершить, придавая тем самым нужную форму и обеспечивая новое качество существования, а также основывается на антиномии естественного и искусственного с древности до современности. Истинный образ государства проистекает не от искусственно со- зданного «имиджа», сформированного под влиянием множества внутренних и внешних факторов, корыстных целей, достижение которых создает опасность стать рабом искусственных социальных институтов, но от установки усовершенствования мира в соответствии с принципами человеческой природы. В отличие от образа-имиджа, представляющего собой искусственную реальность, соответствие образу-эйдосу требует духовно-нравственной рефлексии над своей внутренней природой, а также над факторами своего бытия. Настоящая действительность российского государства построена скорее соответственно образу-имиджу и не со-образно «эйдосу», поскольку работа как государственных деятелей, так и граждан страны осуществляется в новых условиях современной глобализации, где речь идет не только о развитии, но о «регулировании» межгосударственных конфликтов.
Специфика Российского государства заключается в наличии факторов, обеспечивающих возможности создания межкультурного пространства общения разновременных, разноязычных и разноцивилизационных культур (большая территория, многонациональность, самобытность, своеобразие путей разрешения внутренних и внешних конфликтов и т. д.). Новая реальность, вызванная сетевой организацией мира, дает повод для дальнейшего исследования образа России в плане национальной идентичности, а также для определения роли России в сфере новой социокультурной политики.
Список литературы Детерминация образа России с древности до современности: лингвофилософский подход
- Методология семиотико-герменевтического анализа мифологизированного образа России / С.А. Гончаров, О.М. Гончарова, Н.Н. Королева [и др.] // Письма в Эмиссия.Оффлайн. 2009. № 10. С. 1359.
- Сюзюмов М.Я. К вопросу о происхождении слова «Pœç», «Рша1а», Россия // Вестник древней истории. 1940. Т. 2 (11). С. 121-123.
- Там же.
- Назаренко А.В. Глава I. Имя «Русь» в древнейшей западноевропейской языковой традиции (IX-XII века) // Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М., 2001. С. 11-50.
- Там же. С. 14-31.
- Там же. С. 39-40.
- Там же. С. 40.
- Там же. С. 41.
- Там же. С. 43.
- Андреева О.А. Природа и культура в философии французского Просвещения. Курск, 2011. 164 с.
- Аристотель. Метафизика. О душе // Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1976. Т. 1. 550 с.
- Платон. Диалоги. Кратил. М., 1993. 388 с.
- Платон. Диалоги. Государство. М., 2001. 382 с.
- Там же. С. 157-159.
- Августин Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппонского // Богословские труды. М., 1978. сб. 19. 264 с.
- Гоббс Т. Избранные произведения: в 2 т. М., 1964. Т. 2. 747 с.
- Андреева О.А. Указ. соч. С. 73.
- Montesqieu Ch. Oeuvres complètes // Textes annotés par R. Caillois. P., 1964. T. II. р. 419.
- Платон. Диалоги. Государство ... С. 314-315.
- Андреева О.А. К вопросу о просвещенности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7. № 4 (25). С. 20-24.
- Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. М., 2004. 272 с.