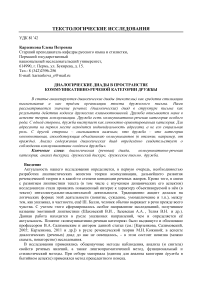Диалогические диады в пространстве коммуникативно-речевой категории дружбы
Автор: Карзенкова Елена Петровна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Текстологические исследования
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются диалогические диады (текстемы) как средства стилизации высказывания и как приёмы организации текста дружеского письма. Нами рассматривается значение речевых (диалогических) диад в структуре письма как результата действия кодекса дружеских взаимоотношений. Дружба описывается нами в аспекте теории коммуникации. Дружба есть коммуникативно-речевая категория особого рода. С одной стороны, дружба выступает как личностно ориентированная категория. Для адресанта на первом месте находится индивидуальность адресата, а не его социальная роль. С другой стороны - оказывается важным, что дружба - это категория конъюнктивная, способствующая объединению коммуникантов (в отличие, например, от вражды). Анализ содержания диалогических диад определённо свидетельствует о соблюдении коммуникантами «кодекса дружбы».
Диалогическая (речевая) диада, коммуникативно-речевая категория, дружеский дискурс, дружеское письмо. дружба, анализ дискурса
Короткий адрес: https://sciup.org/147229781
IDR: 147229781 | УДК: 81''42
Текст научной статьи Диалогические диады в пространстве коммуникативно-речевой категории дружбы
Актуальность нашего исследования определяется, в первую очередь, необходимостью разработки лингвистических аспектов теории коммуникации, дальнейшего развития речеведческой теории и в какой-то степени концепции речевых жанров. Кроме того, в связи с развитием лингвистики текста (в том числе с изучением динамических его аспектов) исследователи стали проявлять повышенный интерес к характеру объективируемой в нём (в тексте) интеллектуально-мыслительной деятельности. Традиционно акцент делался на логических формах этой деятельности (понятие, суждение, умозаключение и т.п.), между тем, как указывал, в частности, ещё Ш. Балли, человек обычно выражает в речи прежде всего чувства. С учетом этого сформировалось особое направление исследований, получившее название эмотивной лингвистики (Шаховский В.И. , Залевская А.А. , Телия В.Н. и др.). Данная работа находится в русле указанных направлений, чем и определяется её актуальность. Понятие «коммуникативно-речевая категория» было выдвинуто и обосновано профессором В.А. Салимовским и автором данной статьи (см.: [Карзенкова, Салимовский, 2005; Карзенкова, 2011 и др.]) в русле речеведческой теории М.Н. Кожиной; в аспекте диалогических (речевых) диад до нас не освещалось, – в этом состоит новизна (можно сказать, новаторство) исследования.
В исследовании применялись общенаучные методы наблюдения, анализа (и синтеза) свойств речевых явлений, а также лингвопрагматический метод, функциональный и стилистический методы. При отборе материала (единиц для анализа категории дружба в бытийном аспекте) применялся метод прецедентного поиска.
Основная часть
Под коммуникативно-речевой категорией мы понимаем потенциальную систему коммуникативных средств, используемых при создании текстов в той или иной ситуации речевого взаимодействия. Можно сказать, что это – виртуальный план речевого жанра (в понимании М.М. Бахтина) или некоторой совокупности речевых жанров, сформировавшихся в условиях некоторого типового речевого взаимодействия. По принадлежности к межличностному или социально-полевому общению коммуникативно-речевые категории могут быть разделены на два класса: категории личностно ориентированного и социально ориентированного взаимодействия (см.: [Бгажноков, 1973; Леонтьев, 2008]). По их роли в адаптации индивида к ситуации – на категории дизъюнктивные и конъюнктивные (термины Г.М. Андреевой, см.: [Андреева, 2009, с. 71-73]).
Коммуникативно-речевая категория дружбы относится к личностно ориентированным и конъюнктивным (см.: [Карзенкова 2011 и др.] и характеризуется диалогичностью.
«Понятие диалогичность имеет определённые этические характеристики, напрямую связанные с дружеским взаимодействием: открытость общения, стремление понять Другого, принятие другого во всём его своеобразии, ценность индивидуальности Другого, видение в другом личности свободной и равноправной, стремление к согласию, ответственность за Другого, полнота самоотдачи в отношении к Другому» [Салимовский 2004]. Диалогичность – несомненный признак жанра письма как такового – предполагает, в первую очередь, наличие собеседников, а во вторую – вопросно-ответный подход к «монтированию текста» (термин Р. Барта, см.: [Барт, 1989, с. 256-258]). Таким образом, в текст оказываются «вмонтированы» реальные , заданные в инициативном письме или в «кодексе дружбы», или виртуальные – подразумеваемые – вопросы и ответы адресата и адресанта; иными словами: происходит диалог «на расстоянии письма».
Вопрос о текстовых единицах , единицах из которых «монтируется текст», является дискуссионным. В современной лингвистике чаще всего такие единицы выделяются по тематическому критерию [см., напр.: Гальперин, 1981, ван Дейк, 1989]. Иногда текстовые единицы рассматриваются как континуальные образования. Например, в концепциях Н.И. Жинкина и Т.М. Дридзе: текстовая единица, именуемая предикацией , часто выражается в тексте «точечно», когда представляющие её языковые единицы размещены в разных частях текстового пространства. Исходя из задач настоящего исследования, мы будем рассматривать текстовые единицы в диалогическом аспекте, с точки зрения объективации социального речевого взаимодействия. Понимаемая так текстовая единица – это речевая диада [см.: Дускаева, 2012 и др.], то есть соотнесение по крайней мере двух смысловых позиций, например: вопрос – ответ; жалоба – сочувствие; просьба – согласие её удовлетворить и т.п. Кроме того, мы исходили из гипотезы, что смысловые позиции – составляющие речевые (диалогические) диады – определяются стимулирующими их нормами дружеских взаимоотношений, образующими «неписаный кодекс дружбы», приведённый в психологической литературе И.С. Коном, А.В. Петровским Р.С. Немовым и подтверждённый «иллюстрациями» из лингвокультурологических описаний прозаических художественных текстов [Вежбицкая, 2001, с. 63, 109; Арапова, 2005, с. 25, 27], паремий и поэзии [Хизова, 2005, с. 66] и др. Проиллюстрируем и мы сказанное демонстрационным анализом письма Р.О. Якобсона к Г.О. Винокуру (Прага, сер. октября – ноябрь 1920 г.; цитируем по: [Якобсон, 1999]).
Характерно уже само начало этого письма, эксплицирующее диалогические отношения, ср.: Буду отвечать на вопросы, которые Тебя несомненно занимают. Сразу после этой проспективной фразы следует диалогическая диада: упрёк - оправдание (объяснение: «почему я не писал?»). Эта фраза, на первый взгляд, свидетельствует о том, что в письме Г.О. Винокура мог содержаться упрёк другу за его молчание. И отвечая на этот упрёк, Р.О. Якобсон оправдывается: Когда я узнал о твоей женитьбе, написал Тебе длинную поздравительную приписку… теперь думаю, что как письмо то, так и страдания устарели… Однако эти объяснения могли появиться вовсе не из-за реально «помещённого» в инициативное письмо Г.О. Винокура укора, а следовать из самого «кодекса дружбы», который предписывает уделять внимание другу, эмоционально поддерживать его, всячески выказывать свою привязанность, приязнь, в том числе, например, делиться новостями и встречно интересоваться изменениями в жизни друга. В такой трактовке практически любые речевые диады могут быть рассмотрены и объяснены при полном отсутствии инициативного письма, то есть только на основании дружеских действий, поименованных в «кодексе дружбы» и «ответных речевых единиц» адресанта. Словом: если Ты друг – Ты неукоснительно следуешь нормам дружеского поведения, вне зависимости от того, упрекнули тебя или нет.
Ср.: признание адресанта в осуждаемых социумом недостатках скорее всего рассчитано на утешение со стороны адресата (как следствие выполнения статьи дружеского кодекса: «проявлять взаимопонимание»). Потому у меня много разных приятелей, но в 24 года полагается, если не иметь свой дом, то свою среду иметь, а у меня нет. Друг-адресат выступает здесь в роли Сострадальника (как и в первом примере), притом потенциального (о типах адресатов-друзей см.: [Кон, 2005]).
Кроме того, адресант в дружеском письме может вступать в диалог и сам с собой. Тогда адресат становится Другом-Зеркалом [Там же], только отражает и не больше. Ср. например: Я, вероятно, ещё поплач у сь за всё это…как поплатился уже… бросая службу и оставаясь в чужом мало сказать, враждебном городе с несколькими тысячами крон, что же из этого получится ? Это вопрос, не требующий ответа адресата, но и не риторический, ибо на него отвечает адресант ( Изменив службе, я остался верен себе …). Возникшая таким образом речевая диада « автовопрос – автоответ» является также характерной чертой дружеского письма.
Ещё одной составляющей дружеского кодекса выступает «уважение внутреннего мира и автономии друга». В нашем источнике также есть иллюстрация этому. Описывая свои дела (делясь новостями с другом), Р.О. Якобсон пишет: Я прослужил 3 месяца, а больше 3 месяцев я ещё нигде не служил. Итак, изменив службе, я остался верен себе с собой, и если ты меня любишь, и в этом случае у тебя нет оснований говорить sehr unzufrieden. Здесь проявляется речевая диада вопрос ( о делах друга) – « ответ - признание », в которой, как в матрёшке, намечена следующая: реально записанное признание – ожидаемое (пока потенциальное) одобрение (подбадривание) . «Условие», сформулированное Р.О. Якобсоном, и есть не что иное, как эксплицированная статья «дружеского кодекса» (если дружишь, любишь, то есть принимаешь Другого таким, какой он есть); следующая диада « просьба – удовлетворение просьбы ». Речевая диада « вопрос – ответ» ещё раз встречается в авторском исполнении, но это теперь не «иллюзия» вопроса, будто автор письма отвечает на заданный им самим вопрос. Здесь он отвечает на вопрос именно адресата, ср.: Изменил ли я Москве, московским друзьям, Кружку? нет, я вернусь. Возвращаться сейчас… становится для меня чрезвычайно опасным. Однако здесь следует сказать (грусти ради), что Р.О. Якобсон так и не вернулся…
Речевая диада жалоба – сочувствие (ожидание сочувствия): Я последнее время никому по выше отмеченным причинам не писал и вот уже 2 недели, как подвергнут злейшей блокаде – не получаю ни одного письма . Этот фрагмент отражает такие нормы дружеских отношений, как «помогать с случае нужды» (друг нуждается в сочувствии!), «доверять, быть откровенным» (друг признаётся, что испытывает муки!), со стороны адресата требуется «эмоциональная поддержка», которую он сможет выразить в ответном послании.
Нами рассмотрены лишь некоторые характерные особенности личностно ориентированной конъюнктивной коммуникативно-речевой категории дружба (см. об этом: [Карзенкова, Салимовский, 2005; Карзенкова, 2011 и др.]. Приведённые примеры речевых актов, как видно, могут представлять собой диалогические диады. Набор указанных текстовых единиц, обнаруженных нами, со всей очевидностью иллюстрирует мысль о текстообразующем характере коммуникативно-речевой категории дружбы. Вместе с тем нормы дружеских взаимоотношений («кодекс дружбы») определяют тематическую макроструктуру (термин Т. ван Дейка, см.: [ван Дейк, 1989]) письма, набор основных тем и его композицию. Ср.: просьба – отчёт о её выполнении; запроса – ответ; автовопрос – автоответ; отчёт о выполнении просьбы– благодарность; жалоба – сочувствие; просьба – удовлетворение просьбы; упрёк – оправдание, признание – утешение и др.
Важным выводом для нас является следующее положение: взаимная эмоциональная поддержка – это, как представляется, главная (рефлексивная) составляющая коммуникативно-речевой категории дружба , ярко проявляется на бытийном уровне: тропы, стилистические фигуры [Карзенкова, 2016; 2018]; речевые диады. При этом в отличие от категории дружба , для некоторых коммуникативных категорий (в частности, для категории толерантности ) различение рефлексивного и бытийного аспектов совершенно необходимо. Так, коммуниканты могут иметь вполне определённое представление о толерантном общении (рефлексивный план), понимать его ценность (духовный план), но не иметь практики толерантного поведения (бытийный план). Факт, что такой практики пока не сложилось в нашем обществе в целом, отмечают, например, И.А. Стернин и К.М. Шилихина [2001], О.А. Михайлова [2004] и др.
Между тем, как показал наш анализ, реальное речевое взаимодействие людей, находящихся в дружеских отношениях, вполне соответствует утвердившимся в обществе и подтверждённым психологическими исследованиями дружбы. Тем самым можно говорить, что рефлексивные представления о дружбе, её духовные характеристики соответствуют бытованию, «применяются на деле». Иными словами, бытийная сторона дружбы – само бытие друзей (в том числе и речевое, как видно из переписки) – на деле (в речевом действии) отражает рефлексивную (понятийно-концептуальную) и духовную (ценностную) характеристики коммуникативно-речевой категории «дружба». Таким образом, ценность дружеских взаимоотношений – в самом бытие друзей, что иллюстрирует наш материал.
Заключение
При осуществлении настоящего исследования были обнаружены следующие речевые диады: упрёк – оправдание (объяснение); вопрос – ответ; автовопрос – автоответ; признание (в неодобряемом) – одобрение (поддержка); жалоба – сочувствие; суждение о плохом настроении – сочувствие; сомнение – наставление. Все эти диады непосредственно определяются кодексом дружбы [Кон, 2005; Немов, 2001; Петровский, 2001], составляющие которого и отражены в дружеском письме. Представляется, что это не все возможные речевые диады, которые характеризуют дружеское письмо. В данной работе освещены лишь некоторые аспекты фундаментальной проблематики коммуникативно-речевой категории, которой, несомненно, ещё будут посвящены исследования разработчиков теории речеведения.
Список литературы Диалогические диады в пространстве коммуникативно-речевой категории дружбы
- Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Аспект Пресс, 2009. 363 с.
- Арапова О.А. Концепт «дружба»: системный и функционально-когнитивный анализ. Дисс.. к. филол. н. Москва, 2005. 242 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бгажноков Б.Х. Психолингвистические проблемы речевого общения: личностно и социально ориентированное речевое общение. Автореф. к. филол. н. Москва, 1973. 24 с.
- Вежбицкая А. Словарный состав как ключ к этнопсихологии и психологии культуры: Модели «дружбы» // Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Москва: Языки славянской культуры. 2001. С. 63-209