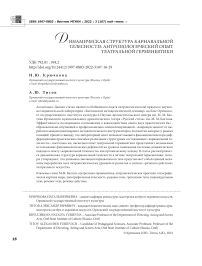Динамическая структура карнавальной телесности: антропологический опыт театральной герменевтики
Автор: Крючкова Наталья Юрьевна, Титов Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (107), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является обобщением опыта антропологической практики научно исследовательской лаборатории «Бахтинский методологический семинар» на базе Орловского государственного института культуры и Научно-просветительского центра им. М. М. Бахтина Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина. Эффективность исследования соотношения и взаимодействия опыта двух практических баз - образовательно-обучающей и профессионально-специализированной - напрямую зависит от выработки междисциплинарного методологического инструментария. Коллектив авторов (с разных позиций) пришёл к выводу, что лабораторный опыт позволяет выявить феноменологическую дифференциацию практических способов различения структурных составляющих «карнавальной телесности», настолько же, насколько опыт театральной герменевтики представляет возможным истолкование феноменологических рефлексий на уровнях понимания системно-динамического подхода к опыту «карнавальной телесности» как органическому целому. В статье рассматривается динамическая структура карнавальной телесности в оптике театральной герменевтики. Авторы утверждают, что динамика эволюции карнавального тела представляет собой единый механизм переработки всех антропологических уровней её развития в синтезе «речевого действия» театрального искусства.
М.м. бахтин, театральная герменевтика, антропологическая практика, топографическая картина мира, топографическая телесность, родовое тело, гротескное тело, индивидуальное тело, речевое тело, речевое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/144162574
IDR: 144162574 | УДК: 792.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-3107-16-29
Текст научной статьи Динамическая структура карнавальной телесности: антропологический опыт театральной герменевтики
Введение в методологию лабораторного исследования антропологической практики речевой телесности. Заявленная в статье многоаспектная категория «карнавальная телесность» в современной науке подразделяется на ряд специализированных отраслей антропологического, культурологического, онтологического и прочих содержательных подходов. В результате подобного разделения предмет исследования как бы уходит из поля зрения и растворяется в других самостоятельных научных дисциплинах. Приходится конкретизировать контексты и корректировать научный дискурс, выясняя, о каком «карнавале» и какой «телесности» идёт речь и оказываясь, наконец, перед простой очевидностью: мы просто за деревьями не видим леса.. Настоящее исследование базируется на анализе учебно-образовательного театраль- ного опыта и профессиональной сценической практики. Динамический спектр «карнавальной телесности» выявлен в результате использования лабораторного метода и антропологического подхода к органической целостности данного культурного феномена.
Научно-методологические основания исследования «карнавальной телесности» непременно отсылают нас к универсалистским разработкам этой темы в трудах М. М. Бахтина. (Хоть, это и не является основной задачей статьи, но мы попытаемся показать, что диалогическое несогласие с бахтинским подходом других исследователей вызвано следствием установок научной дифференциации, а не методологической «утопией» учёного.) Методология гуманитарного знания в своих обобщениях непосредственно базируется на органическом опыте антропологического целого, в разрыве с которым гуманитаристи-ка, утрачивая связи с природой человечности в человеке, перестаёт быть затребованной как опыт антропологической практики, именуемой «работа над собой». Бахтинская структура «топографической телесности» практически тождественна содержательно-семантическому концепту «карнавальная телесность» в своих динамических составляющих элементах: «родовое тело», «внутрителесное тело», «гротескное тело», «индивидуальное тело».
Рабочая формула антропологического практикума : каждому речевому жанру своё тело воплощения-высказывания.
Театральная герменевтика интегрирует данные семантические структуры «речевого тела» в динамике классического треугольника: переживание – выражение – понимание (В. Дильтей). Но в отличие от герменевтики, как жанра теоретического высказывания, театральная герменевтика может идти от эксцентрического акта выражения к внутреннему опыту понимания и переживания. Бахтинское «внутрителесное тело» («я внутри своего тела»), есть следствие «отелеснивания смысла» («смысло-тело»), смысл всегда персоналисти-чен и персонифицирован в структуре самого тела – это принцип воплощения «персонально- го тела» или «тела индивидуального». В качестве рабочего конструкта в практике феноменологического различения принята категория «нейтральное тело», как условие организации состояния нейтрализации дуальных и дихотомических оппозиций в системе спектральной антропотомии Homo Somaticus [22].
Собственно, герменевтический подход, как искусство целостного прочтения и толкования смыслов, так же распадается на дисциплинарную отраслизацию («общую» и «специальную»), подразделяясь на уровни прочтения: космологический, мифологический, ритуальный, фольклорный, аллегорический, психоаналитический, семиотический и прочие, и прочие. На наш взгляд, фокус театральной герменевтики в её исходном прикладном значении антропологической практики захватывает опытно-феноменальное истолкование воплощённых смыслов отвлечённых понятий, в нашем случае – понятие «карнавальная телесность». Если Вячеслав Иванов в своей знаменитой формуле «философия есть экзегетика мифа» («Философема представляется точною экзегезой мифологемы») [21, с. 21] употреблял слово «экзегетика» как эквивалент категории «герменевтика» именно в практическом смысле, то – по старой доброй аналогии – театральная герменевтика есть телесно-воплощённая экзегетика трансформирующегося мифа, именно самого процесса (акта) трансформации, а не имитации мифа, трансформированного в драму. То есть речь идёт не о канонизированных формах (например, жанровых), а о самом акте трансгрессии личного опыта понимания в переходах формообразующих конституирующих структур (например, речевых жанров и речевого действия).
Генетически театр не есть прямой перенос интерпретации мифических смыслов в их мистериальных проекциях, но является иным качественным обращением мифа из ряда образно-символической театрализации на уровни драматургической понятийной вербализации (О. Фрейденберг) [27]. Театр в своих порождающих смыслах является промежуточным (медиальным) ретранслятором кризисных сдвигов и осевых смещений «больших эпох» (М. М. Бахтин) [2]. В системе «тектонических сдвигов» театр в фокусном моменте «здесь и сейчас» воспринимает (улавливает), синхронизирует (входит в резонанс) и передаёт (транслирует) весь синхронистический спектр исторических наслоений в «единой топографической модели мира» (в значении термина М. М. Бахтина) [5].
Оптика театральной герменевтики фокусирует методологический ракурс на «топографической телесности» самого процесса развития феномена воплощения «карнавальной телесности» представляет её как саморазви-вающуюся многоуровневую формально динамическую модель качественного становления и преобразования: от акта перевоплощения как подражания в высшем смысле «трагическому мифу» (по Аристотелю) к акту обращения и преображения в христианском смысле. Функциональные порядки действенных структур целостного комплекса «карнавальной телесности» характеризуются признаками системно-динамических актов переключения, претворения, превращения, превозникновения («изобретения мира впервые») в его космогоническом обращении.
Интуитивный опыт театральной герменевтики преимущественно базируется на феноменологии неявных и внелогических чувствований и ощущений целого (мышление образами, схватывание целиком), включая сферы неосознаваемого в структурах сознания (подсознательное, бессознательное, сверхсознательное). Метод «работы над собой» в процессе переживания роли через себя и себя в роли представляет собой мощную технику понимания на уровне первичного акта моделирования телесных реакций (по формуле К. С. Станиславского «от внешнего к внутреннему»). Топографическое тело подобно тексту на пергаменте в обратимой технике палимпсеста (греч. παλίμψηστον, от πάλιν – опять, вновь и ψηστός – соскобленный): – удалённый текст сохраняется в базе данных. Мы можем реконструировать и строить описательную модель как минимум на двух фундаментальных уров- нях текстуального восприятия и воспроизводства: языкового – в структурном изоморфизме кода биологического коду лингвистическому (Р. Я. Якобсон) и речевого – диалогического полиморфизма и полифонизма (М. М. Бахтин). Напомним, что так называемое «нейтральное тело» необходимо для феноменологического различения подходов к искусственному языковому воспроизведению (семиотическому коду) и органическому – речепорождающему (по сути, до-языковому). Нам же требуется найти индивидуальный ключ к доступу удалённого текста антропологической целостности.
Карнавальный парадокс смыслопорождающей динамики: возникновение (порождение) новых содержательных смыслов, естественно, вступает в конфликт с прежними формами-носителями смыслов, которые в силу инерционного тяготения остаются, несмотря на саморазрушительные характеристики ветхости и дряхлости, достаточно устойчивыми. И наступает действие карнавального парадокса: новое содержание гротескным преувеличением буквально «выворачивает наизнанку» старое, но не в качестве формы-носителя своего содержания, а в акте возвращения к энергийным первоистокам формопорождения («тело возвращения»). Гротеск как приём в принципе не должен нести смысловых, тем более, идеологических коннотаций, гротеск есть гротеск и не более того. «Гротескное тело» – в буквальном значении слова «триггер» – «спусковой крючок» на регуляцию акта преобразования (переключения, перенаправления) энергийной базы родового или витального тела.
Выработка новой формы осуществляется буквально во вращательном движении относительно произвольно выбранной «оси мира» (например, в санскритской драме), вокруг которой вращается плоскость старых представлений о топографической картине мира (в эру христианства «ось мира» символизирует крест). «Карнавальное тело» – «тело вращения» в этой драме превращений травестирует ветхую форму, изменяя векторы топографической ориентации смыслов
L
и порождая новую, соответствующую форму. Произвольная ось вращения карнавального тела – слово-понятие (логос), воплощённое в индивидуальном «речевом теле». К данному понятию следует сделать существенное замечание: под «речевым телом» подразумевается мировой воплощённый Логос («говорящее бытие»), в лице которого говорит всё мироздание и человек; форма «речевого действия» – словесное единоборство живого и мёртвого, неба и преисподней [27, c. 105– 106]. Отсюда структурно-антропологический изоморфизм большого логосного тела космоса (макрокосм) и малого логосного тела человека (микрокосм).
Динамическая модель циклически проявляет себя в трёх фазовых уровнях: 1) от момента становления некоего синкретически целостного универсума (идеального), 2) к моменту расцвета и стабилизации некоего общеустановленного (нормированного, официального), и далее 3) к моменту дифференцированного распада на прагматически-утилитарные подуровни (специализированного, ремесленного, технического) и тотального кризиса (осевого сдвига). Динамика инвариантных взаимодействий этих уровней носит вневременной характер синхронистического спектра, приближая нас к опытному пониманию неопределённости категориального аппарата М. М. Бахтина: «большое время – большая память – индивидуальное тело» в связке-взаимодействии другого структурного изоморфизма: «речевое время – речевая память – речевое тело».
Своё исследование карнавальной культуры М. М. Бахтин [3] сосредоточил на моменте упадка и распада, возведя в универсум период кризисного перехода от позднего средневековья к Ренессансу. Так называемый «неофициальный» карнавал к этому времени был достаточно профессионализирован, а изначальные его смыслы существования были уже утрачены. Впрочем, исторически «карнавал» во всех своих полисемантических значениях и в любом своём полиморфизме не может быть стихиен и не упорядочен. Он всегда жёстко регламентирован, включая и дионисийские вакханалии и сатурналии. Регламентирован, прежде всего, вертикалью сакральной структуры ритуала. Именно иерархически заданная организация целого позволяет спонтанно проявлять себя как неожиданному (парадоксальному) и случайному (стохастическому), с точки зрения официальной нормативности, так и невыразимому, и непознаваемому (апо-фатическому). Если бы мы говорили на языке синергетики, то эти процессы совершенно очевидным образом относились к действию «сверхстранного аттрактора» в локальном пространстве «области Джокера».
Парадоксально, но в качестве аргументации данного тезиса служат христианские предания о чудесных обращениях профессиональных мимов в кризисную эпоху становления христианства III–IV столетий. Телесное и духовное преображение совершается именно в самом моменте шутовского и пародийного представления, изображающего обряды Крещения, страдания и муки первых христиан, риторику церковных проповедей. Житийный список мучеников и святых, обращённых в веру христианскую мимов, достаточно широк для того, чтобы говорить о некой закономерности типического и универсального, а не чудесной случайности единичного («Мартиролог театра», Афины, 2012 г.). Естественно, что агиографические сюжеты таковых мимических преображений, уже в эпоху расцвета христианства конца V–VI вв., были положены в основу театральных представлений, сценарные текстологические формы которых дошли до наших дней [25, с. 202–222]. Весьма относительно данные тексты можно маркировать термином «пьесы» в современном понимании, но то, что они были предназначены для сценической постановки, подтверждается наличием ремарок как режиссёрских указаний.
Сам факт Распятия толковался эллинами как акт безумия: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (Апостола Павла 1-е послание к коринфянам 1:22). С точки зрения античного мира новая религия демонстриро- вала свою абсурдную несообразность с требованиями разума и умопостигаемой мудрости. Мистерия Голгофы с идеей кенозиса (κένωσις – опустошение, истощение) как Божественного самоуничижения Христа, безусловно, воспринималась в этом контексте как «карнавал», а телесное воплощение Бога-Слова – как «карнавальная телесность» в персонажной воплощённости трикстера, о чём пытался передать В. Н. Турбин изустным высказыванием М. М. Бахтина о «карнавальном» (нехристианском) восприятии Евангелия [10].
Универсализм концепции Бахтина, на языке учёного, «бытийно представительствует» динамическую и/или топографическую структуру «карнавальной телесности»: «гротескное тело» – «родовое тело» («внутри-телесное тело») – тело антропологическое (адамово тело) – «индивидуальное тело большого опыта». Парадоксальным образом «большая память» родового тела индивидуализируется, и тело «неподвижной вечности», тело «большого становления» (смены эпох) начинает проявлять себя в «индивидуальном теле» конкретного носителя памяти – в личности [2, с. 519]. Данная трансформация «карнавальной телесности» в концепции учёного объяснима только с точки зрения христианского Богово-площения, воплощения Бога-Слова.
В целом герменевтика Бахтина претерпевает динамику «диалектического скачка» (как бы он сам ни открещивался от диалектики) – от «родового тела» к «телу индивидуальному» в памяти Большого времени, прозревая в этом кризисном эпохальном разломе универсальный смысл духовной вертикали «карнавальной телесности». А потому исследователь упорно возвращается в своих интуициях «топографического тела» к романной форме Ф. М. Достоевского. Преодолевается тот разрыв, на который постоянно указывают исследователи, уловляющие Бахтина в противоречии. Трансформации и преобразования карнавального тела осуществимы в заданности преображения «речевого тела».
Разрешение этого парадокса генетически укореняется в «речевом теле» воплощённого
Логоса (Слово-Плоть-Бог). Фундаментальность универсального уровня логосного воплощения в карнавальном теле мы находим не в привычном синтезе семитической и древнегреческой традиции «эллинистического христианства», но значительно древнее – в древнеиндийском трактате о театре «Натьяшастра» (предположительно, I–III тыс. до н. э.).
Сакральные смыслы карнавальной телесности. Собственно, научное изучение «Пятой Веды», как именуют священные тексты о «Натье», имеет позднее происхождение, по причине того, что первые переводы памятника с санскрита на европейские языки (в основном английский) появляются только в конце XIX века, а относительно полное критическое издание было опубликовано только в конце второй половины XX столетия. Отечественная индология приступила к изучению трактата в 1970-х-1990-х гг. (первая работа Алихановой Ю. М. «Театр Древней индии – Культура Древней Индии», 1975 г.). Научное исследование Лидовой Н. Р. «Драма и ритуал в Древней Индии», на которое мы опираемся в настоящей статье, было опубликовано в 1992 году [12]. Соответственно, колоссальная инерция отечественного театроведения не может, да и не желает, пересматривать фундаментальные положения западноевропейской традиции во взглядах на театр. И первая проблема театрального генезиса – это «идеологические» расхождения во взглядах на истоки происхождения театра: светское или сакральное (священное). Как ни странно, но эти «челночные» дискуссии о курице и яйце продолжаются до сих пор.
Ключевым моментом в этих спорах является понятие «десакрализация», которое однозначно все прогрессисты относят к «светскому» освобождению от архаического груза сакрального, а заодно и священного (на вопросе различения и разделения этих понятий мы здесь не станем останавливаться). Но в действительности акт десакрализации (развопло-щение) интегрирован в динамическую структуру ритуального действа, а, следовательно, и в состав «карнавальной телесности».
В «Натьяшастре» ритуально-мифологическая интерпретация (экзегетика) стадии десакразлизации пространства осуществляется в границах сакрального как акт перехода-преображения от старого инертного состояния космоса к новому космическому циклу. В этой фазе полигонизации (перестройки структур) старой упорядоченной модели вселенной наступает время (или момент вечности) становления Божественного Слова, логосного основания мироздания, что и переводит символически ритуальное действо в статус «борьбы с помощью слов». Наступление нового состояния мира знаменуется «звучащей речью» (бхарати вритти – «говорящее слово» или «речевое действие» или «тело вращения») как формой активизации творческой потенции мироздания. То есть появление (рождение) карнавальной телесности самым непосредственным образом связывается с порождением речевой действительности. Невольно напрашивается термин «карнавальная глоттогония», поскольку происхождение языка в драматической структуре ритуального действа тесно связано с явлением на сцене странного персонажа, вечно узнаваемого и вечно ни на что и ни на кого не похожего,– его величество Шут-Трикстер-Джокер.
Согласно священному тексту после торжественной части ритуала исполняется «костюмированная интермедия», по определению Натьяшастры, именуемая «Тригата» и «имеющая вид пьесы». Тут и предстаёт наш вечный антагонист Видушака (санскр. vidûshaka – портящий) в обличье лысого, горбатого и пузатого карлика, одним своим видом вызывающий смех. Внешнее описание этого персонажа значительно трансформируется во времени, но все авторы древности сходны в одном инвариантном признаке: речевая амбивалентность, одновременно абсурдная и остроумная.
Динамическая структура этой воплощённой карнавальной телесности в лице Видуша-ки эволюционирует от прямого воплощения бога победителя демонов (аватара Вишну)
в период становления (тексты Ригведы) до его помощника-трикстера в период расцвета (Вишну – Видушака) и, как полная противоположность – «асуры» (буквально «не-боги»), что означает именование антиподов персонажам божественного пантеона в период распада и кризисного упадка [7].
Мы изложили «чистый» (и значительно редуцированный) акт динамического моделирования «топографической картины» мира, описанный Н. Р. Лидовой в терминах Натьяша-стры, до момента появления интересующего нас персонажа интермедии [12, с. 26]. В этой интермедии и находит свой генезис древнеиндийская драма и театр; и актёр, и сцена, и особо для этого предназначенное и возведённое здание – все значения театра, слитые в одном полисемантическом термине «натья». «Натья-шастра» – священный трактат (сутры) о натье регламентирует его сакральное, изначально целостное, синкретическое и симультанное, обрядово-ритуальное значение.
Любопытно, что, используя, по сути, феноменологический метод наивного синкретизма Жана Пиаже – «смешивать разнородные явления без достаточных на это оснований», принимая «связь впечатлений за связь вещей», мы приходим к неожиданному сближению значений в древнегреческих словах «пародия», «парадокс» и «парод» в общем акте выворачивания наизнанку «против и вопреки» (др.-греч. παρά «возле, кроме, против») ожидаемого. И странное сближение с этими значениями конструкта «парод» (др.-греч. πάροδος) – «открытого коридора», прохода на орхестру, расположенному между (против) амфитеатром и скеной, впоследствии трансформированном в «чёрную дыру» портального отверстия (зеркало сцены). Эти смыслы создают единое семантическое пространство «карнавальной телесности» в прочтении «изнаночной», «вывороченной» «смеховой культуры» (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачов, А. М. Панченко). «Внутри-телесное тело», вывернутое в космогоническом акте говорения, речепорождение мироздания даёт свежий взгляд на мир – неожиданный, т. е. парадоксальный.
Традиция «Тригаты» исследователями относится к жанру ритуальной энигмы (énigme) или «нулевой точки» фазового перехода сознания в процессе парадоксального обмена загадками в форме словесного поединка. Характерно, что древнегреческий миф об Эдипе относится к первому, широко распространённому в античном мире появлению энигматического жанра, заменяющего кровавую битву на словесный поединок (встреча со Сфингсой). Драматург Софокл использует форму речевой баталии в драматической завязке своей трагедии (сцена вторая), с которой начинается катастрофа и стремительное возвращение героя к самому себе как истинному я. Жанр этой сцены диалога слепого провидца Тиресия и недальновидного Эдипа явно носит характер комически-пародийной ситуации. Об этом говорит весьма сомнительная и двусмысленная телесность зеркально отражающих друг друга персонажей, которые поочерёдно играют роль трикстера (комического дублёра) в травестий-ной ситуации имитации героического состояния пароксизма (возвышенного припадка). Персонажи не в состоянии проявить былую харизму боевого духа и вынуждены ограничиться словесной баталией и перепалкой бессильных проклятий. Эта двойственность не амбивалентная, в которой расщепленное (бинарное) отношение (переживание) к ценности лежит в самом явлении, и не игра смысловой многозначностью высказывания (полисемия). Эта двойственная игра основана на телесной неоднозначности персонажей (героя и его комического дублёра), лишённых телесной идентификации,– «трансгендерная телесность» Тиресия и «инцестированное тело» Эдипа. В этой, по сути, гротесковой ситуации, очевидная истина о преступлении и преступнике, ложно завуалированная и запутанная в процессе словесной баталии, доведённая до банальности, выстреливает вдруг и неожиданно: мудрый птицегадатель Тиресий «привел в движение страшное». Трагическая амбивалентность «Эдипа-царя» приращивается контекстуальными интерпретациями фабульного «узнавания» (по Аристотелю), которая стро- ится на знании сюжета разыгрываемого мифа об Эдипе (игровой принцип знания-у-знания). Отсюда парадоксальная неожиданность зрительского восприятия игры в двусмысленность кажимости и истинности. Режиссёр Питер Брук рассказывает о своём впечатлении от сцены с Тиресеем в африканской постановке «Эдипа», решённой в фарсовом ключе. Словесная перепалка персонажей радостно предугадывается зрителем в игре несовпадения вопросов и ответов, ведущих вопрошающего Эдипа к катастрофе. Но на реплике «Ты убил своего отца!» публика одновременно с Эдипом приходят в ужас, наступает тишина. Режиссёр останавливается в размышлении где расходятся и соединяются трагедия и комедия [5, с. 291–292]. Они разошлись во времени упадка и деградации жанрового дробления – изначально синкретического в универсальной стадии становления.
Театр генетически сакрален, мистериа-лен, но в нем усиливается элемент имитации не в значении мимесиса, как подражания трагическому мифу, но в двусмысленном подражании теневым пародийным двойникам (концепция О. М. Фрейденберг [27]). Уместно здесь и пародийное высмеивание сакрального в границах самого сакрального в динамической смене относительных ценностей (концепция В. П. Даркевич [11]). Одно не отменяет и не противоречит другому, но активно взаимодействует в единой системе действия. Идея «двумирности» Бахтина на уровне изначального синкретизма (универсального) заключается в том, что большая память родового тела сохраняет и проявляет стихийное смехо-вое начало, но уже в топографии локальных многоуровневых расслоений по отношению к «официальному».
Скоморохи Божьи в динамике карнавальной телесности. Динамический кризис эпохи «раблезианского гуманизма», прежде всего, был кризисом духовно-религиозным, периодом упадка, распада и деградации западноевропейской христианской церкви – «Тела Христова» (яркий пример представлен в названии «Моралите о болезни Христианства»
1533 г.) [14]. Всё телесное получает доминанту «низового» материального начала в «родовом теле» коллектива, социума и индивида, которое было спроецировано на телесный, вселенский космос как неразделимое, единое и живое «говорящее» целое. Этих признаков вполне достаточно, чтобы говорить о частичной утрате преобразовательной силы лого-сных смыслов «карнавальной телесности». В эпоху позднего Ренессанса площадной карнавал окончательно профессионализируется на уровне ремесленно-цеховой специализации. Поэтому в конце XVI века площадные мистерии, из общественной литургии превращённые в зрелище, подвергаются легитимации и запрету.
Народная праздничность «гротескного реализма» официально регламентировалась, но локально позиционировала свою потайную вторую жизнь в контрапункте к общеустановленному и общепринятому уровню. Идеализированная гуманистами карнавальная среда «праздника осла» и «праздника дураков» генерировала новые социальные утопии (в том числе и в жанре пародии, например, такой антиутопии, как роман Сервантеса). В романе Франсуа Рабле смысловым центром композиции является первый французский утопический идеал под названием «Телем-ское аббатство» (L’abbaye de Thélème – от гр. θελεμα – воля). Утопический образ, созданный бывшим монахом-францисканцем, именуемый «Вольной обителью», и является воплощением идеального «речевого тела», «Тело Слова», которым должна была стать церковь, как «Тело Христово». Зашвырнув свою францисканскую рясу в крапиву [18], Франсуа Рабле, которого В. Гюго назвал «шутовским Гомером», сохранил в себе образ идеального братства и заговорил на языке народной смеховой культуры. Посредством народного празднества он вывернул наизнанку фарсовое, гротескное тело «мессы осла» монашеских орденов и воплотил образ Вольного аббатства в его «внутрителесном теле». Как некогда святой Франциск Ассизский преобразился в «скомороха Бога», «придворного олуха Царя небесного» [24], в котором текст Священного Писания заговорил с миром на языке его тела (проповедь птицам).
М. М. Бахтин постоянно возвращался к теме францисканства не только в связи с творчеством Франсуа Рабле и Ф. М. Достоевского, но и с усиленным интересом к судьбе нищенствующего монашеского ордена в среде русского религиозного ренессанса, начиная с первых десятилетий XX века [17]. Для нас важен момент «двумирности» карнавальной телесности, как логосное (словесное) воплощение драматургического конфликта (словесной борьбы) на театрально-сценических подмостках.
Сложную тему скоморошества мы только обозначим, но не в связи с поверхностной исторической редукцией пред-театральных или паратеатральных форм [20], совсем не имеющую отношения к генезису театра в силу его искусственной маргинализации. Изначально скоморошество, по крайней мере, на Руси, носило атрибут сакрализации княжеской власти. Знаменитые фрески внутренней галереи, соединяющей южную и северную башни Киево-Софийского собора, с росписью сцен охоты и скоморошьих игрищ не символизировали никакого «двоеверия», но латентно содержали в себе потенциал будущего «двоемирия». Фрески не предоставлены к общему усмотрению, но скрыты в княжеских полатях (хорах) Северной башни Святой Софии, где располагалась княжеская резиденция семьи и ближайших приближённых. Материалы многолетних исследований историка С. А. Высоцкого, собранные ещё в 60-х – 70-х гг. прошлого столетия, не получили широкой огласки, возможно, и по причине несоответствия бытующей до сих пор идеологии двоеверия в конфликтном отношении христианства и язычества. Скоморошество на Руси пришло из Византии вместе с христианством, а главная тема фресковых изображений была развёрнута в сюжетном повествовании о визите в столицу Византийской империи Константинополь княгини Ольги и о её провиденциальной встрече с императором Константином VII Порфирородным [6, с. 38].
Мы не могли не привести этот редко упоминаемый факт не в связи с темой скоморошества, но в связи с динамической структурой взаимодействия сакрального, священного и профанного. Свой «рассвет» скоморошество, уже не в качестве атрибутивного свойства, но сакрально действенного инструмента власти, получает во времена правления великого князя и первого помазанника на царство Ивана IV (Васильевича), прозванного Грозным и «скоморохом Божьим». В борьбе царя с родовой аристократией скоморошьи ватаги служили орудием разорения боярских вотчин, так как по высочайшему Указу обязаны были содержать царские артели игрецов и глумотворцев [13; 16]. И это происходит в эпоху, когда скоморошество «Домостроем» отнесено в разряд «игр бесовских», и Стоглавым церковным собором 1551 года «рекомендовано» не привлекать скоморохов к участию в свадебном венчании и поминальном обряде, что только почти через сотню лет, в 1647 году, будет окончательно запрещено высочайшим Указом Алексея Михайловича Тишайшего.
Мы видим, что к XVI столетию весь христианский мир ополчился на смеховую культуру народных праздников в лице скоморошества, оттесняя её на периферию и вырабатывая новый дискурс документального производства, который относит их к разряду языческих культовых обрядов: «кощуны сатанинские», «песни сатанинские», «песни бесовские»; «бесовские игралища»; «бесовские игры», «гудбы бесовские». В иконографии Страшного суда, получившей особенно широкое распространение к этому времени на Руси, скоморохи, певцы, плясуны и глумцы «в огне повешены за ноги» [19, с. 463–477]. Поразителен поздний пример послания в Пустозерск протопопу Аввакуму от 1676 г., в котором осуждение «игранья» относится к смерти царя Алексея Михайловича, запретившего скоморошество. Имя царя обличается в грешном образе, за что тот и был, по мнению автора, наказан в «посмертии своём», так как «тешился всяко различными утешении и играми» [15, с. 232.]. Сам протопоп Аввакум известен нам как лич- ность «привесьма карнавальная и скоморошеская», впрочем, как и все русские подвижники исихастского толка, типа преподобного Нила Сорского, непримиримого к внешнему религиозно-обрядовому символизму.
В период второй половины XVI – первой половины XVII столетий скоморошество из разряда положительных действ, обладающих не только сакральными функциями, но рудиментами священного, направленного на благо, вытесняется в «антимирное», «кромешное» измерение, в крайнюю оппозицию к новой системе социальных отношений. Естественно, что по отнесении явлений праздничной народной культуры к языческой обрядности, доминантной характеристикой этих действ становится преобладание материальнотелесного «низа», а духовное содержание, связанное с традицией сакрализованного антиповедения, активно демонизируется. Строится новая идеология «третьего Рима», сакрализация священного «неба» трансформируется в сакрализацию власти земной.
Карнавальная телесность скоморошества деградировала, но не лишилась главного сакрального признака – словесного действия, выраженного «сверхнормативной» лексикой перевёрнутого мира, в которой обсценная лексика использовалась как элемент проклятий, оберегов, охранительных заклинаний и проч. [28, с. 36–51]. И вновь мы обнаруживаем всё те же инварианты динамической структуры карнавальной телесности: словесная рифмованная перепалка слов и условная баталия с напарником, проводимая с единственной целью – организации «области джокера» («область перемешивания»), видимости сумятицы и беспорядка, за которой (или из которой) проявляется «сверхстранный аттрактор» нового логосного порядка и равновесия – «юродивый о Христе и Христа ради».
Агиографические свидетельства жизнеописаний XIV века свидетельствуют о появлении нового типа «карнавальной телесности», внешне схожей по своему поведению со ско-морохом,– «юродивый Христа ради». Так, блаженный Симеон Юродивый, сирийский монах-отшельник VI века, известный своим имитационным безумием, в русских переводах получил практически канонизированное прозвище «игреца», т. е. скомороха Божьего. Канонические черты иконографических изображений святых юродивых Христа ради наравне с житийными сведениями закрепляются ко времени Макарьевских соборов середины XVI столетия [1, с. 283–345.]. Текстологами русского перевода Священного Писания единодушно утверждается общий семантический ряд слов «юродивый», «буйный» «похабный», которые воссоздают образ поведения русского «видушаки»: глупый, безумный, своенравный, непокорный, шумный, бесстыдный и непристойный, но все вариации строго (почти канонизировано) сопряжены с подражанием Христу. Абсурдность поведения юродствующего означает ту бытийно-экзистенциальную грань, за которую никто не может перейти [8].
Многочисленные типы юродивых во Христе, нашедшие свои определённые локации во времени последних четырёх столетий на Руси, интегрированы одним, чётко структурированным, принципом по отношению к «высшей власти», представленным в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов»:– посрамление всякой неправедной власти [26].
Двойником одновременно юродивого и скомороха в одном лице в том же XVI столетии становится тип домашнего шута или дурака, он и веселит, он и посрамляет. Он так же наделён легитимным правом «инаковости» по отношению к другому измерению, к «ино-мирию», но определять его в качестве «анти-мирия» не вполне корректно с той же церковной точки зрения. Поскольку типы юродивого, шута и скомороха, практически, находятся в соотношении теневого пародирования, но генетически представляют собой один эсхатологический тип проводника-посредника в двумирии земного и небесного в преддверии нового бытия – Пакибытия (от слав. «паки» – вновь), которое осуществится после пришествия и воцарения Сына Человеческого.
Вместо заключения: перспективы исследования карнавальной телесности в структуре драматического действия.
Мы рассмотрели исторические генерации динамических структур карнавальной телесности в их «чистом» виде, действующие приблизительно до XVI – первой половины XVII вв. В дальнейшем в контексте театральнодраматургических структур мы можем различать локальные проявления жанровых и персонажных признаков, заданных стилистическим приёмом авторского преувеличения (гротеск).
Метод художественной реконструкции первых десятилетий XX столетия (Н. Н. Ев-реинов, Вс. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов) предоставил возможности реальной практики в исследовании жанровых феноменов не только сценического, но и антропологического опыта карнавальной телесности. Эвритми-ческие опыты М. А. Чехова с индивидуальным речевым телом конкретизируют лабораторный подход в поиске технических средств «анатомирования» речепорождающей телесности. Эвристический подход характеризует экспериментальную работу с родовым телом в театральных тонально-пластических студиях пролеткульта.
Театральная герменевтика целостного прочтения драматургического произведения в фоновом контексте большого времени, например, сценическое прочтение локальных средневековых жанров фарса, миракля и моралите в общем контексте «площадной драмы», как народной литургии, представляет богатейший материал для художественного решения спектакля (Дж. Р. У. Найт, Ф. Ф. Комиссаржев-ский). Исключительный феноменальный опыт речевой телесности представляет собой «Международный центр театральных исследований» Питера Брука, в котором антропологический подход играет главную роль в исследовании человеческого «устроения» актёра, в отличие от «театральной антропологии» Эудженио Барбы, исследующей опыт «сценического присутствия». В последнее время получил распространение вид документального театра (вербатим), реализация технической стороны которого зависит от телесно-речевой конгруэнтности актёра-интервьюера реаль- ному прототипу («донору») предстоящего представления.
Лабораторный подход позволяет выявить феноменологическую дифференциацию индивидуально-речевых регистров карнавальной телесности, если под «регистрами» понимать определённый локус-центр топографической телесности, задействованный в контексте драматической ситуации «речевого жанра».
Герменевтический подход представляет возможным истолкование феноменологических рефлексий на уровнях системнодинамического понимания и толкования опыта «карнавальной телесности» как органического целого.
Естественно возникающая дихотомия в подходе к драматургическому произведению (пьеса), в первую очередь, как письменному тексту (литературному), задаёт коммуникативные регистры вторичного моделирования речевой действительности, то есть семиотического. Органическое действие актёра задаётся в режиме преодоления (преобразования) репертуара языковых средств, как «чужого слова» (авторского), зафиксированного текстуально, в живую речь. «Речевое тело» материала пьесы присваивается в органике «речевого действия» (речепорождающей) и в этот момент запускается, вольно или невольно, динамический механизм карнавальной телесности.
Антропологический подход к топографической дифференциации телесности, согласно которому выявляется «жанровое» отношение или «угол зрения на предмет» (по Г. А. Товстоногову) [23] в речевом теле участников драматического общения, способствует феноменологическому различению типов актуализации речевого высказывания в поиске «словесного действия».
Список литературы Динамическая структура карнавальной телесности: антропологический опыт театральной герменевтики
- Андроник (Трубачёв), Афиногенов Д. Е., Гросул В. Я., Зайцев Д. В. и др. Житийная литература // Ефе-сянам послание - Зверев. Москва: Православная энциклопедия. Т. XIX, 2008. С. 283-345.
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. Москва: Художественная литература, 1986. 543 с.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 543 с.
- Бахтин М. М. Работы 1940-х - начала 1960-х гг. // Собрание сочинений, Т. 5. Москва: Русские словари, 1997. 731 с.
- Брук Питер. Нити времени: Воспоминания. Москва: Артист. Режиссёр. Театр, 2005. С. 291-292.
- Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской: (По материалам граффити XI-XVII вв.): Автореф. дис. ... доктора исторических наук. Киев, 1978. 38 с.
- Воробьёва Д. Н. Карлики в Древнеиндийской религиозной иконографии: уровни интерпретации / Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2017. № 7. С. 590-598.
- Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. Москва: Имп. Общество истории и древностей при Московском университете, 1903. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Gol-ubinskij/istorija-kanonizatsii-svjatyh-v-russkoj-tserkvi/
- Гуревич А. Я. К истории гротеска. «Верх» и «низ» в средневековой латинской литературе // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 34. № 4. С. 327.
- Из переписки М.М. Бахтина с В.Н. Турбиным (1962-1966) / Предисловие Натальи Ивановой. Подготовка к печати и комментарии Н.А. Панькова // Знамя, 2005. №7. URL: https://magazines.gorky.media/ znamia/2005/7/iz-perepiski-m-m-bahtina-s-v-n-turbinym-1962-8212-1966.html
- Даркевич В. П. Пародийные музыканты в миниатюрах готических рукописей // Художественный язык Средневековья. Москва: Наука, 1982. С. 20-37.
- Лидова Н. Р. Драма и ритуал в Древней Индии. Москва: Наука. Восточная литература, 1992. 149 с.
- Лихачёв Д. С. Историческая поэтика русской литературы: Смех как мировоззрение. Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. 508 с.
- Некрасова И. А. Религиозная драма и спектакль XVI—XVII веков. Санкт-Петербург: Гиперион, 2013. 365 с.
- Памятники старообрядческой письменности. Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2000. 382 с.
- Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Ленинград: Наука, 1984. С. 72-153.
- Попова И. Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. Москва: ИМЛИ РАН, 2009. 464 с.
- Сент-Бёв Ш. «Французские легенды. Рабле». Сочинение Эжена Ноэля // Литературные портреты. Критические очерки. Москва: Художественная литература, 1970. 296 с.
- Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З.И. Власова, Е.П. Фрэнсис (Гладких). Санкт-Пете-бург: Нестор-История, 2007. С. 463-477.
- Стахорский С. В. Театральная культура Древней Руси. Москва: Государственный институт телевидения и радиовещания, 2012. 392 с.
- Степанова Г. А. Идея «соборного театра» в поэтической философии Вячеслава Иванова. Москва: ГИТИС, 2005. 141 с.
- Титов А. Ю. Спектральная антропотомия телесности: введение в методологическую постановку проблемы целостности // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Антропология театральности: природа любительского художественного творчества» Орёл: Орловский государственный институт культуры, 2018. С. 97-114.
- Товстоногов Г. А. О жанре // Товстоногов Г. О профессии режиссёра. Москва: ВТО, 1965. С. 127-147.
- Честертон Гилберт Кийт. Святой Франциск Ассизский. Москва: Политиздат, 1991. URL: https:// www.4italka.ru/nauka_obrazovanie/ istoriya/82175/fulltext.htm
- Чистюхин И. Н. Византийский театр. Орёл: Орловский государственный институт культуры, 2018. 241 с.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 384 с.
- Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 896 с.
- Юрков С. Е. «Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI - начало ХХ вв.). Санкт-Петербург, 2003. С. 36-51. URL: https://vk.com/wall-38761535_69667