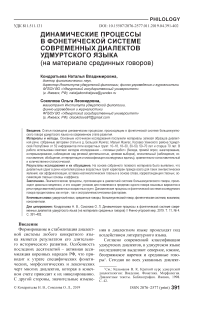Динамические процессы в фонетической системе современных диалектов удмуртского языка (на материале срединных говоров)
Автор: Кондратьева Наталья Владимировна, Соколова Ольга Леонидовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена динамическим процессам, происходящим в фонетической системе большежужгесского говора удмуртского языка на современном этапе развития. Материалы и методы. Основным источником исследования послужили материалы записей образцов диалектной речи, собранные авторами статьи в д. Большой Жужгес, Малый Жужгес, Косоево Увинского района Удмуртской Республики от 52 информантов пяти возрастных групп: 10-18, 18-30, 30-50, 50-70 лет и старше 70 лет. В работе использован комплекс методов исследования - «полевых работ» (беседа, прямой опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение над речевой деятельностью, целевая выборка), описательный (наблюдение, сопоставление, обобщение, интерпретация и классификация исследуемых единиц), сравнительно-сопоставительный и количественно-статистический. Результаты исследования и их обсуждение. На основе собранного полевого материала было выявлено, что диалектный сдвиг в речи носителей разных возрастных групп характерен прежде всего для таких лингвистических явлений, как аффрикатизация, вставка неэтимологических гласных в основе слова, корреспонденция гласных, ассимиляция гласных основы и аффикса. Заключение. Лингвистические процессы, протекающие в диалектной системе большежужгесского говора, происходят довольно медленно, и это создает условия для появления в пределах одного говора языковых вариантов в речи представителей различных возрастных групп. Динамические процессы в фонетической системе исследуемого говора продиктованы как интра-, так и экстралингвистическими факторами
Удмуртский язык, срединные говоры, болшежужгесский говор, фонетическая система, вокализм, консонантизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147217936
IDR: 147217936 | УДК: 811.511.131 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.04.391-402
Текст научной статьи Динамические процессы в фонетической системе современных диалектов удмуртского языка (на материале срединных говоров)
Формирование и стабилизация диалектной системы любого конкретного языка является результатом его длительного исторического развития. Особенность последних десятилетий – активная ассимиляция коренных народов РФ, что приводит к утрате специфических фонетических, морфологических и лексических черт многих диалектов, которая в конечном счете приводит к их нивелированию. С другой стороны, значительные измене
ния в диалектном языке происходят под воздействием литературного языка.
Cогласно современной классификации удмуртских диалектов, в удмуртском языке исследователи выделяют северное, южное, бесермянское наречия и срединные гово-ры1. Сегодня во всех указанных диалект-
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ных системах наметилась явная тенденция к интралингвистическим изменениям. Учитывая вышесказанное, основной целью данной статьи является описание динамических процессов отдельных диалектных изменений в области фонетики, происходящих в большежужгесском говоре, с учетом возрастных особенностей носителей языка. «Большежужгесским» нами назван говор удмуртов, проживающих в населенных пунктах муниципального образования «Большежужгесское» Увинского района Удмуртской Республики. Исследуемый говор распространен в нижнем течении реки Нылги – правого притока реки Вала, впадающей в реку Кильмезь, и охватывает югозападную часть Увинского района. В состав указанного муниципального образования входят 3 населенных пункта: д. Большой Жужгес (удм. ӝуӝгэс ), Малый Жужгес (удм. кэчгурт ), Косоево (удм. косой ). Общая численность населения муниципального образования на 1 января 2019 г. составляет 687 человек, подавляющее большинство из них – коренные удмурты (490 человек); также проживают русские (110 человек), из которых многие свободно владеют удмуртским языком. Коренное население общается на удмуртском языке, за исключением русскоговорящих жителей, переселившихся в эти населенные пункты из других мест.
Интерес к данному говору продиктован его промежуточным положением: он совмещает в себе признаки северных и южных диалектов, причем в различной степени каждый из них. Помимо этого, в срединных говорах выделяется также ряд особенностей, которые не свойственны ни северному, ни южному наречиям удмуртского языка, но в той или иной степени характерны для всех срединных говоров.
Обзор литературы
В истории развития удмуртской диалектологии принято выделять три этапа: 1) 1858–1928 гг.; 2) 1929–1954 гг.; 3) с 1955 г. по сегодняшний день [17]2.
Срединные говоры, к которым относится большежужгесский говор, являлись объектом исследования ученых во все этапы развития удмуртской диалектологии. Так, первой теоретической работой, посвященной научному анализу удмуртских диалектов, стала статья Ф. Й. Видеман-на «Zur Dialektenkunde der wotjakischen Sprache» [33], с которой собственно начинается первый период истории удмуртской диалектологии. Эстонский ученый выделяет и описывает «казанский», «гла-зовский», «малмыжский», «сарапульский» и «оренбургский» диалекты. Некоторые данные по фонетике, грамматике и лексике удмуртских диалектов, в том числе срединных говоров, представлены и в других работах ученого3. Исследуемый нами говор здесь включен в мал-мыжский диалект.
Обрaзцы речи срединных говоров удмуртского языка одним из первых зaфикcировaл финcкий ученый Т. Г. Aминофф [28; 29]. С точки зрения исследования срединных говоров особый интерес представляет первая из книг под названием «Votjakilaisia kielinäytteitä» [29, 32–55 ].
Большой интерес к изучению удмуртских диалектов проявлял известный венгерский ученый Бернат Мункачи, который собрал значительный фольклорно-диалектологический материал, в том числе по срединным говорам удмуртского языка [30]4. Говор д. Мадьярово, Юм-га-Омга и Большой Чибирь Малмыж-ского уезда (ныне Селтинского района), представленный в его трудах, согласно современной классификации удмуртских диалектов относится к селтинскому говору, который по языковым особенностям представляет собой один из срединных говоров и имеет аналогичные с больше-жужгесским говором черты.
Бoгaтый мaтepиaл пo удмуртским диалектам представлен в книгах «Wotjakische Sprachproben» [31; 32] и «Wotjakische
Chrestomathie mit Glossar» 5 финского исследователя Ю. Вихманна. Тексты по «мал-мыжскому диалекту», записанные Вихманном в с. Чужьял (ныне Селтинского района), включают в себя 22 произведения удмуртского фольклора – 19 загадок и 3 легенды (сказки). В этих текстах отражаются отдельные лингвистические явления, свойственные и большежужгесскому говору, в частности: 1) избыточное употребление аффрикат в непервом слоге слова: палэӟ ‘рябина’, огаӟэ ‘в одно место’; 2) выпадение конечного гласного основы инфинитива: кӧлны (< кӧлыны ) ‘ночевать’, киз’ны (< киз’ыны ) ‘сеять’ и др.
Характерной чертой второго периода развития удмуртской диалектологии (1929–1954 гг.) является проведение большого количества фольклорно-диалектологических экспедиций. Так, в 1936 г. четыре отряда лингвистической экспедиции занимались исследованием удмуртских диалектов в восьми районах республики, а также в удмуртских населенных пунктах в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Кировской и Свердловской областях. Одна из экспедиций под руководством студента Удмуртского пединститута М. Горбушина была направлена на территории распространения срединных говоров (Ва-вожский, Селтинский районы Удмуртии, Кильмезский район Кировской области). Материалы этой экспедиции хранятся в научно-отраслевом архиве Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (д. 223, 224, 225, 226, 344, 345).
Большой интерес с точки зрения фиксации лексики удмуртских диалектов представляет работа Т. К. Борисова «Удмурт кыллюкам»6. В предисловии к книге, содержащей некоторые сведения об удмуртском языке, автор дает краткую характеристику удмуртским диалектам. В удмуртском языке он выделяет четыре наречия: северное, южное, срединное, крайне-южное, которые, в свою очередь, распадаются еще на ряд говоров и подговоров. В срединном наречии (по определению Борисова) вычленяются ижевский и верхне-кильмезский говоры, имеющие определенные различия.
В 1935 г. была опубликована первая диалектологическая карта удмуртского языка, подготовленная С. П. Жуйковым7. На карте зафиксированы территории распространения отдельных фонетических явлений удмуртских диалектов. Все удмуртские говоры автор объединяет в три диалекта: северный, средний, южный. На этой карте в «кильмезском», или среднем, диалекте Жуйков выделяет шесть групп. К первой подгруппе он относит говоры окрестностей Сюмси, Селты, Старые Зятцы, ко второй – говор якшур-бо-дьинских удмуртов. К третьей и четвертой подгруппам – соответственно говоры ты-ловайских и шарканских удмуртов. В отдельную пятую группу выделены говоры нылгинских, ижевских, малопургинских и завьяловских удмуртов. В шестую группу исследователь включает говоры окрестностей с. Вавож и пос. Ува.
С середины 1950-х гг. в истории удмуртской диалектологии начинается новый этап, который связан с защитой кандидатской диссертации «Тыловайский диалект удмуртского языка» Т. И. Тепля-шиной8. Как отмечает Кельмаков, эта работа стала одной из первых, где была представлена методика описания диалекта как целостной языковой системы [17, 29 ].
Как уже отмечалось, срединные говоры распространены на довольно обширной территории – в центральных районах Удмуртской Республики (Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский районы, юго-западная часть Игринского, южная часть Шарканского, Якшур-Бо-дьинский, Завьяловский районы, северная часть Кизнерского, Можгинского и Малопургинского районов), а также в нескольких населенных пунктах Малмыж- ского и Вятско-Полянского районов Кировской области9. Однако обобщающего труда по срединным говорам удмуртского языка до сих пор не представлено, имеются лишь работы по отдельным говорам / ареалам (например, средневосточным [5 и др.], прикильмезским [9 и др.] и т. д.). Между тем процесс постепенной утраты диалектной специфики – явление объективное и развивающееся. В связи с этим комплексное обследование и, возможно, более полная фиксация языкового материала срединных говоров являются одними из актуальных вопросов современной удмуртской диалектологии.
Материалы и методы
Основным источником исследования послужили материалы записей образцов диалектной речи, собранные нами в д. Большой Жужгес, Малый Жужгес, Ко-соево Увинского района Удмуртской Республики от информантов пяти возрастных групп: 10–18, 18–30, 30–50, 50–70 лет и старше 70 лет. В качестве дополнительного источника использовались также образцы речи по исследуемому говору, представленные в книгах Кельмакова «Образцы удмуртской речи: Северное наречие и срединные говоры» [15, 279–282 ] и «Образцы удмуртской речи 2: Срединные говоры» [16, 224–244 ].
При решении поставленных задач был задействован комплекс методов: а) сбор материала проводился с помощью методов «полевых работ» (беседа, прямой опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение над речевой деятельностью, в том числе посредством длительного сосуществования, метод целевой выборки); б) в качестве основного метода в работе над материалом выступает описательный, реализующийся в приемах наблюдения, сопоставления, обобщения, интерпретации и классификации исследуемых единиц; в) сравнительно-сопоставительный и количественно-статистический методы, которые широко применяются как в лингвистических, так и в социолингвистических исследованиях.
Результаты исследования и их обсуждение
Система вокализма
Состав гласных фонем в удмуртских диалектах варьируется от 6 до 10 еди-ниц10. Исследуемый нами говор входит в группу удмуртских диалектов, характеризующихся вокалической системой в 7 единиц (таблица).
Таблица. Система гласных большежужгесского говора
Table. Bolshezhughesky dialect vowel system
|
Подъем / Rise |
Ряд / Row |
||
|
Передний / Front |
Средний / Middle |
Задний / Back |
|
|
Верхний / Upper |
и |
ы |
у |
|
Средний / Average |
э |
0 |
о |
|
Нижний / Low |
а |
||
Большежужгесский говор обнаруживает некоторые специфические черты в области вокализма. Рассмотрим основные из них подробнее.
Корреспонденция гласных
В большежужгесском говоре имеется достаточно большое количество слов, звуковой состав которых отличается от других удмуртских диалектов. Из регулярных корреспонденций в описываемом говоре представлены следующие виды (в корреспонденции первым дается вариант боль-шежужгесского говора).
Корреспонденция гласных ы // и :
-
а) в исследуемом говоре в небольшом количестве слов в соседстве с последующим велярным согласным или между ж, ш и последующим палатальным нередко употребляется ы , тогда как в северных диалектах в этой же позиции функционирует гласный и : бжуж. гынэ // сев. гинэ ‘только, лишь’; бжуж. жынгыртэ // сев. жингыртэ ‘звонит; звенит, бренчит’; бжуж. жыл ’ ы // сев. жил ’ ы , жил ’ и ‘цепь’; сч. вч. ышка ~ ыӵка // сев. ишка ~ иӵка ‘срывает, дергает’; бжуж. жыл ’ дэ // сев. жил ’ дэ ‘лущит, выбирает поштучно’; бжуж. шыл ’ ы // сев.
шил ’ ы ‘полоска лыка для плетения лаптей’ и др. В проявлении данной особенности исследуемый говор обнаруживает сходство с собственно южным и периферийно-южными диалектами, также с бе-сермянским наречием [21, 38–39 ; 27, 73 ]11, в которых широко распространены ы -вые формы в указанных словах.
В большежужгесском говоре произношение указанных слов в ы -вой огласовке в большей степени свойственно респондентам 50–70 лет и старше 70 лет. В отличие от этого, в речи школьников 10–18 лет и информантов 18–30 лет наблюдается употребление данных лексем с гласной и , что обусловлено влиянием литературного языка;
-
б) в изучаемом говоре в небольшой группе слов в пределах первого слога перед палатальными согласными как рефлекс праудмуртского * ů выступает гласный ы на месте и говоров южной диалектной зоны: бжуж. кыз ’ // южн. киз ’ ‘моча’; бжуж. быз ’ ыны // южн. биз ’ ыны ‘выйти замуж; бежать, течь (о реке)’; бжуж. тыс ’ // южн. тис ’ ‘зерно; семя’; бжуж. кын ’ ыны // южн. кин ’ ыны ‘закрыть, закрывать глаза’; бжуж. пыӟэс // южн. пид ’ эс ‘колено’; бжуж. пыз ’ // южн. пиз ’ ‘моча’; бжуж. кыз ’ ы ~ кыӟы // южн. киз ’ ы ‘как; каким образом’.
По характеру проявления данного явления исследуемый говор имеет сходство с северноудмуртскими диалектами [11, 42 ] и литературным языком. Произношение указанных лексем в ы -вой огласовке характерно для речи всех обследованных нами возрастных групп носителей описываемого говора.
Следует указать, что в большежужгес-ском говоре в данной позиции зафиксированы единичные случаи употребления гласного и на месте ожидаемого ы : бжуж. вил ’ // сев. выл ’ ‘новый’; бжуж. пил ’ ыны // cев. пыл ’ ыны ‘колоть, расколоть’.
По мнению Кельмакова, первичным в данной корреспонденции является ы. Изменение ы в и в отдельных южных диалектах и бесермянском наречии произошло под влиянием соседнего после- дующего палатального согласного [14, 163; 18, 21].
Корреспонденция гласных и // ы возникла в результате изменения первичного ы перед палатальными согласными в и в южной диалектной зоне при сохранении его ( ы ) в северной диалектной зоне. В описываемом говоре переход первичного ы в и наблюдается в следующих суффиксальных морфемах:
-
1) суффикс формы настоящего времени 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа от глаголов I спряжения (бжуж. - ис ’ к- // сев. -ыс ’ к -): бжуж. тод-ис ’ к-о // cев. тод-ыс ’ к-о ‘знаю’; бжуж. ум ко · шк-ис ’ к-э // cев. ум ко · шк-ыс ’ к-э ‘не уходим’;
-
2) показатель возвратного залога от некоторых глаголов I спряжения (бжуж. - ис ’ к- // сев. -ыс ’ к -): южн. кыл ’ -ис ’ к-э // cев. кыл ’ -ыс ’ к-э ‘раздевается’; бжуж. вур-ис ’ к-э // cев. вур-ыс ’ к-э ‘занимается шитьем’;
-
3) суффикс формы 2-го и 3-го лица мн. числа неочевидного прошедшего времени от глаголов I спряжения (бжуж. -ил ’ л ’ амды // сев. -ыл ’ л ’ ам(ды) ; бжуж. -ил ’ л ’ ам // сев. -ыл ’ л ’ ам(зы) ): бжуж. понил ’ л ’ ам // cев. пон-ыл ’ л ’ а · м(зы) ‘они, оказывается, положили’;
-
4) показатель причастия настоящего времени от глаголов I спряжения: (бжуж. - ис ’ // сев. -ыс ’): бжуж. лыкт-ис ’ // cев. лъкт-ыс ’ (точнее: лыкты-с ’) ‘приходящий’; бжуж. ул-ис ’ // cев. ул-ыс ’ (точнее: улы-с ’) ‘живущий’.
Следует указать, что в перечисленных глагольных аффиксах корреспондирующие гласные ы и и представляют собой конечные гласные основы глаголов I спряжения, которые в северной диалектной зоне и отдельных срединных говорах сохранились без изменения. В отличие от этого, в южных диалектах, в том числе в описываемом нами говоре, этот первичный гласный основы ы , удержавшись перед аффиксами с твердым согласным, трансформировался в и перед палатальным началом последующих суффиксальных морфем.
Помимо этого, в непервом слоге междиалектная корреспонденция гласных и // ы отмечается в сочетании -ий- // -ый- на стыке именного или глагольного корня с финальным ы и служебной морфемы с начальным согласным й. В северноудмуртских диалектах, как и в бесермянском наречии, конечный гласный двусложной основы ы перед согласным й суффиксального слога сохраняется, а в южноудмуртских и отчасти срединных говорах [6, 72– 73], в частности в большежужгесском говоре, в отмеченной позиции гласный ы под ассимилятивным влиянием й чаще всего видоизменяется в и: бжуж. чырти-йаз // cев. чырты-йаз ‘на его шее’; бжуж. узи-йэн // cев. узы-йэн ‘земляникой’; бжуж. лыми-йа // cев. лымы-йа ‘идет снег’.
Произношение указанных лексем в и -вой огласовке характерно для речи всех обследованных нами возрастных групп носителей описываемого говора.
Выпадение гласного ы
Данное лингвистическое явление зафиксировано в следующих случаях:
-
1) в конце этимологической основы глаголов I спряжения перед суффиксом инфинитива при условии, если в основе глагола не наличествует сочетание согласных перед ы : дышэтны (< дышэты-ны ) ‘учить’, йуны (< йуы-ны ) ‘пить’, мынны (< мыны-ны ) ‘идти’, вайны (< вайы-ны ) ‘принести’, пырны (< пыры-ны ) ‘зайти, войти’. Выпадение гласного ы широко распространено и в других удмуртских диалектах, в частности в срединных говорах [10, 61 ; 19, 75–76 ; 20, 46 ; 23, 73–90 и др.]12 и отдельных говорах собственно южного диалекта [1, 9 ; 2, 201 ; 3; 7, 12–13 ]. Единичные случаи синкопы ы конца глагольной основы отмечены в кырыкмасских говорах [12];
-
2) в деепричастиях, образованных от глаголов I спряжения, перед аффиксами - са, -тэк, -тоӟ : нуса (< нуыса ) ‘неся’, шутэк (< шуытэк ) ‘не сказав’, вутоӟ (< вуытоӟ ) ‘доходя’. Явления синкопы гласного ы в указанной позиции имеют место и в других срединных говорах [10; 19; 20; 23 и др.], встречаются также
в некоторых южноудмуртских говорах [2, 201 ; 13, 18 ; 22, 174–175 и др.];
-
3) в глаголах I спряжения перед суффиксом - сал условного наклонения: (мон) ой ву • рсал (< ой ву • рысал ) ‘(я) не сшил бы’, (тон) вайсал (< вайысал ) ‘(ты) принес бы’, (со) гырсал (< гырысал ) ‘(он) пахал бы’. Выпадение гласного ы в данной позиции довольно широко распространено и в других срединных говорах, например: в верхнеижских [25, 201 ], прикильмезских [8, 61 ; 20, 46 ], увинско-вавожских [10, 61 ; 19, 76 ], а также в тыло-вайском [26, 131 ] и средневосточных [4, 102 ; 7, 13 ] говорах. Изредка оно отмечается и в отдельных южноудмуртских диалектах, в частности в среднеюжном [2, 201 ];
-
4) в наречиях с суффиксом -ак и прилагательных с аффиксом -эс и перед сонорным согласным р : котрак (< котырак ) ‘кругом, вокруг’, жотрак (< жотырак ) ‘резко, грубо’, котрэс (< котырэс ) ‘круглый’, гол ’ трэс (< гол ’ тырэс ) ‘навязчивый, придирчивый’, ӝабрэс (< ӝабырэс ) ‘цепкий’.
Указанные случаи выпадения гласного ы характерны для всех обследованных нами пяти возрастных групп носителей большежужгесского говора.
Вставка неэтимологических гласных
В большежужгесском говоре, как и в других удмуртских диалектах, наблюдается вставка неэтимологических гласных в заимствованных словах с несвойственным удмуртскому языку стечением согласных в анлауте, инлауте и ауслауте. Данное явление, по нашим наблюдениям, характерно в основном для речи носителей старше 70 лет. Эпентетическими гласными чаще выступают гласные ы , у , и , изредка – о, а, э.
В анлауте для устранения стечения согласных в соседстве с велярными согласными обычно наблюдается гласный ы , в соседстве с палатальными – в основном гласные и, э. При этом эпентетический гласный может присоединяться к началу слова или появляться внутри консонантного стечения: бжуж. ышкола (< рус. школа ) ‘школа’; бжуж. ысват (< рус. сват ) ‘сват’;
бжуж. с ’ эрэда (< рус. среда ) ‘среда’; бжуж. ыжбан ( ъжбан ) (< рус. жбан ) ‘жбан’; бжуж. бырат ( бърат ) (< рус. брат ) ‘брат’; бжуж. ис ’ т ’ опан ~ ис ’ т ’ эпан ~ ис ’ т ’ апан (< рус. Степан ) ‘Степан’; бжуж. из ’ вэр (< рус. зверь ) ‘зверь’.
Протетический у в начале слова возникает чаще всего перед анлаутным р , не характерным для удмуртского языка: бжуж. уроман (< рус. Роман ) ‘Роман’; бжуж. урумка (< рус. рюмка ) ‘рюмка’. В начале слова гласный у может появиться внутри консонантного стечения перед сочетанием согласного с последующим гласным у : бжуж. турупка (< рус. трубка ) ‘трубка’; бжуж. пуруд (< рус. пруд ) ‘пруд’. Проте-тический о наблюдается перед сочетанием согласного с последующим о , причем нами зафиксирован лишь один пример на данное явление: бжуж. опторн ’ ик (< рус. вторник ) ‘вторник’.
По нашим наблюдениям, вставка гласных в начале слова характерна в основном для речи респондентов старше 70 лет, которые слабо владеют русским языком. В речи других возрастных групп данное явление нами не зафиксировано.
Для устранения сочетания согласных в ауслаутной позиции вставочный гласный может присоединяться к конечному сочетанию согласных (в этом случае чаще выступает гласный а ) или появляется между консонантным сочетанием (в основном добавляется гласный ы , реже и ): бжуж. л ’ итыр ~ л ’ итра (< рус. литр ) ‘литр’; бжуж. мэтыр ~ мэтра (< рус. метр ) ‘метр’; бжуж. чэтвэрик (< рус. четверг ) ‘четверг’; бжуж. пэтыр (< рус. Петр ) ‘Петр’, бжуж. н ’ эрва (< рус. нерв ) ‘нерв’.
Как показывают собранные материалы, произношение указанных лексем, кроме словоформы чэтвэрик , характерно для речи всех возрастных групп диа-лектоносителей. Что касается слова чэт-вэрик , оно зафиксировано нами лишь в речи информантов старше 70 лет.
Явления вставки неэтимологических гласных в той или иной степени свойственны всем диалектам удмуртского языка13.
Ассимиляция
В речи диалектоносителей 50–70 лет и старше 70 лет наблюдается ассимиляция гласной основы а имен существительных последующим гласным о суффикса множественного числа - ос : коркоос (< кор-каос ) ‘дома’, бакчооссы (< бакчаоссы ) ‘их огороды’, кн ’ игоосмы (< кн ’ игаосмы ) ‘наши книги’, контороос (< контораос ) ‘канторы’, анноос (< аннаос ) ‘Анна и ее семья’.
Нередко в дальнейшем происходит стяжение двух одинаковых гласных, в результате чего возникают формы типа коркос (< коркоос < коркаос ) ‘дома’, бакчоссы (< бакчооссы < бакчаоссы ) ‘их огороды’, кн ’ игосмы (< кн ’ игоосмы < кн ’ игаосмы ) ‘наши книги’, конторос (< контороос < контораос ) ‘канторы’ и др.
В речи респондентов младше 50 лет указанное лингвистическое явление не наблюдается, что обусловлено, по-видимому, влиянием удмуртского литературного языка.
Система консонантизма
Консонантная система большежужгес-ского говора представлена 30 фонемами: б, в, г, д, д ’ , ж, ӝ, з, з ’ , ӟ, й, к, л, л ’ , м, н, н’, п, р, с, с ’ , т, т ’ , ф, х, ц, ч, ӵ, ш, щ.
Заимствованные согласные ф, х, ц, щ
Согласные ф, х, ц, щ в основном наблюдаются в русских заимствованных словах. В настоящее время в речи носителей описываемого говора дистрибутивная нагрузка данных фонем увеличивается, но сфера их употребления ограничивается в основном новейшими заимствованиями.
В речи информантов старше 70 лет фонема щ чаще всего заменяется на ш : бжуж. плаш (< рус. плащ ) ‘плащ’; бжуж. шот-ка (< рус. щетка ) ‘щетка’. В речи респондентов более молодых возрастных групп указанная фонема выступает без изменения, т. е. отмечается явление прямого заимствования: бжуж. йащщик (< рус. ящик ) ‘ящик’; бжуж. плащ (< рус. плащ ) ‘плащ’; бжуж. що·тка (< рус. щетка ) ‘щетка’. Что касается остальных русских заимствованных фонем ф, х, ц, то они присутствуют
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ в современной речи каждой из возрастных групп информантов: фонар (< рус. фонарь ) ‘фонарь’, фэд ’ а (< рус. Федя ) ‘Федя’, холод ’ и·л ’ н ’ ик (< рус. холодильник ) ‘холодильник’, хи·трой (< рус. хитрый ) ‘хитрый’, пэ·рэц (< рус. перец ) ‘перец’.
Аффрикатизация
Как традиционно отмечается в трудах по диалектологии, одним из основных различий в звуковом составе срединных говоров, в том числе и большежужгесского говора, является избыточное употребление аффрикат ӵ , ӝ и ӟ в инлаутной и аус-лаутной позиции вместо щелевых ш, ж и з’ северных и южных диалектов и литературного языка, например: бжуж. ваӵкала // сев. вашкала ~ уашкала , южн. вашка-ла ‘древний, старинный’; бжуж. ӵуӵкон // сев., южн. ӵушкон ‘полотенце’; бжуж. кӧӝы // сев., южн. кӧжы ‘горох’; бжуж. ӝоӝон // сев., южн. ӝожон ‘толокно’; бжуж. выӝ // сев., южн. выж ‘мост’; бжуж. кыӟы // сев., южн. кыз’ы ‘как, каким образом’; бжуж. ваӟэн // сев., южн. ваз’эн ‘раньше, прежде’; бжуж. эмэӟ // сев., южн. эмэз’ ‘малина’; бжуж. луӟ // сев., южн. луз’ ‘овод’ и др.
Широкое распространение аффрикат в указанных позициях отмечено и в других срединных говорах, в частности верх-неижских [25, 201–202 ], средневосточных [5, 14 ], прикильмезских14, увинско-вавож-ской группе говоров [24, 107–117 ].
Следует указать, что речь лиц 60–70 лет и старше 70 лет более насыщена аффрикатами, чем речь носителей языка 30–50 лет.
Как показывают наши полевые наблюдения, в речи коренных жителей 30–50 лет отмечается параллельное функционирование форм как с аффрикатой, так и с щелевым согласным: ӵуӵкон ~ ӵушкон ‘полотенце’, пуӵкын ~ пушкын ‘внутри’, таӟы ~ таз’ы ‘так, таким образом’, кыӟ ~ кыз’ ‘моча’, ӝуӝыт ~ ӝужыт ‘высокий’, кырыӝ ~ кырыж ‘кривой, косой’, выӝ ~ выж ‘пол; мост’.
Что касается информантов 10–18 лет, то употребление аффрикат в их речи прак- тически совпадает с удмуртским литературным языком: ӟаз’эг ‘гусь’, лобӟыны ‘взлететь’, ӝамдэлы ‘ненадолго’, ӵушыны ‘стереть’, сыӵэ ‘такой’ и др. Таким образом, на современном этапе в описываемом говоре прослеживается явная тенденция к дезаффрикатизации в ин- и ауслаутной позициях.
Ассимиляция
В большежужгесском говоре наиболее широко распространены следующие виды ассимиляции:
-
1) уподобление т, д последующему согласному к : бжуж. чырккэм (лит. чырткэм ) ‘здоровый, бодрый, жизнерадостный’; бжуж. курккыны (лит. курткыны ) ‘встряхнуть, вытрясти’; бжуж. чорккыны (лит. чортскыны ) ‘проситься’; бжуж. ворккы-ны (лит. вордскыны ) ‘родиться’; бжуж. бэрыккыны (лит. берытскыны ). Эта особенность в основном характерна для речи информантов 30–50, 60–70 лет и старше 70 лет. В речи носителей возрастной группы 10–18 лет отмечается употребление форм, совпадающих с литературным языком. Явление ассимиляции предшествующего согласного последующему к в указанной группе слов отмечается исследователями в верхнеижских [25, 206 ] говорах и увин-ско-вавожской группе срединных говоров [24, 123 ];
-
2) явление регрессивной ассимиляции обнаруживается в глагольных формах со звукосочетанием тч : согласный т под влиянием мягкой аффрикаты ч смягчается и ассимилируется последнему, образуя двойной ч , т. е. в данном случае произношение совпадает с литературным вариантом: бжуж. тэчча (сравните: лит. тэтча [ тэчча ]) ‘прыгает, скачет’; бжуж. куч-ча (лит. кутча [ кучча ]) ‘обувает’. Данная фонетическая особенность присутствует в речи респондентов каждой из возрастных групп информантов описываемого говора;
-
3) ассимиляция по палатальности в прогрессивном направлении отмечается в немногочисленных словах русского происхождения: бжуж. варэн’н’а (< рус. варенье ) ‘варенье’; бжуж. малан’н’а (< рус. Маланья ); пэчэн’н’а (< рус. печенье ) ‘пе-
- ченье’. Указанное явление ассимиляции сохраняется в речи всех возрастных групп носителей большежужгесского говора.
Заключение
Специфические черты большежужгес-ского говора сохраняются в разной степени среди носителей различных возрастных групп. Наиболее ярким примером здесь является функционирование аффрикат в речи: для речи респондентов старше 50 лет характерно избыточное употребление аффрикат; возрастная группа 30–50 лет в словарных формах использует как аффрикаты, так и соответствующие им щелевые согласные; у информантов 10–18 лет употребление аффрикат в речи практически совпадает с удмуртским литературным языком.
Как показывает проведенное исследование, лингвистические процессы, про-
PHILOLOGY текающие в диалектной системе больше-жужгесского говора, происходят довольно медленно, и это создает условия для появления в пределах одного говора языковых вариантов в речи представителей различных возрастных групп. Изучение живых процессов диалектной речи и самого механизма изменения диалектной системы на разных уровнях является одной из актуальных задач современного удмуртского языкознания.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
БЖуж. – д. Большой Жужгес (удм. Ӝуӝгэс) Увин-ского района бжуж. – большежужгесский говор
Кос. – д. Косоево (удм. Косой ) Увинского района
МЖуж. – д. Малый Жужгес (удм. Кэчгурт) Увин-ского района сев. – северноудмуртские диалекты сч. – среднечепецкие говоры вч. – верхнечепецкие говоры южн. – южноудмуртские говоры лит. – удмуртский литературный язык
Список литературы Динамические процессы в фонетической системе современных диалектов удмуртского языка (на материале срединных говоров)
- Архипов Г. А. Морфологические особенности среднеюжного диалекта удмуртского языка I // О диалектах и говорах южноудмуртского наречия: сб. ст. и материалов / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1978. С. 3-46.
- Архипов Г. А. Некоторые вопросы фонетики среднеюжного диалекта удмуртского языка // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1962. Вып. 117, № 1. С. 189-206.
- Атаманов М. Г. Граховские говоры южноудмуртского наречия // Материалы по удмуртской диалектологии: образцы речи / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1981. С. 45-96.
- Бушмакин С. К. Выпадение и вставка звуков в диалектах удмуртского языка // Советское финноугроведение. [Таллинн]. 1970. № 2. С. 101-111.
- Бушмакин С. К. Фонетические и морфологические особенности средневосточных говоров удмуртского языка: автореф. дис.... канд. филол. наук. Тарту, 1971. 28 с.
- Воронцов П. И. Явления выпадения (синкопы) фонемы ы в удмуртском языке // IV симпозиум по пермской филологии, посвящ. 100-летию А. С. Сидорова. Сыктывкар, 1992. C. 15-18.
- Воронцов П. И. Явления выпадения фонемы ы в удмуртских диалектах // Пермистика 4: Пермские языки и их диалекты в синхронии и диахронии: сб. ст. / Удмурт. гос. ун-т. Ижевск, 1997. С. 7-22.
- Загуляева Б. Ш. Некоторые черты глагольных форм прикильмезских говоров // О диалектах и говорах южноудмуртского наречия: сб. ст. и материалов. Ижевск, 1978. С. 59-64.
- Загуляева Б. Ш. Прикильмезские говоры удмуртского языка: автореф. дис.... канд. филол. наук. Тарту, 1980. 16 с.
- Зверева Л. Е. Говоры удмуртов Вавожского и Увинского районов // Образцы речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. С. 60-72.
- Карпова Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского языка: Образцы речи / РАН, УрО, Удмурт. ин-т ИЯЛ. Ижевск, 2005. 581 с.
- Кельмаков В. К. Краткая характеристика кырыкмасских говоров южноудмуртского наречия. I // Вопросы удмуртской диалектологии: сб. ст. и материалов / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1977. С. 26-61.
- Кельмаков В. К. Кукморский диалект удмуртского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 1970. 24 с.
- Кельмаков В. К. О взаимосвязях фонем ы и и в удмуртских диалектах // Кельмаков В. К. Проблемы современной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах (= Удмурт вераськетъёс 1). Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1992. С. 158-168.
- Кельмаков В. К. Образцы удмуртской речи: Северное наречие и срединные говоры. Ижевск: Удмуртия, 1981. 299 с.
- Кельмаков В. К. Образцы удмуртской речи 2: Срединные говоры / АН СССР. УрО. Удмурт. ин-т ИЯЛ; Удмурт. гос. ун-т. Ижевск, 1990. 368 с.
- Кельмаков В. К. Современная удмуртская диалектология: Этапы формирования, некоторые итоги и задачи // Кельмаков В. К. Проблемы современной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1992. С. 25-33.
- Кельмаков В. К. Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов: науч. докл., представ. в качестве дис.... д-ра филол. наук. Москва, 1993. 57 с.
- Кириллова Л. Е. Микротопонимия бассейна Валы (в типологическом освещении) / Удмурт. ин-т ИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 1992. 320 с.
- Кириллова Л. Е. Микротопонимия бассейна Кильмези / Удмурт. ин-т ИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2002. 571 с.
- Люкина Н. М. Фонетико-морфологические особенности языка лекминских и юндинских бесермян. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 200 с.
- Насибуллин P. Ш. Диалекты Закамья и Урала I // Материалы по удмуртской диалектологии: образцы речи / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1981. С. 149-180.
- Перевозчикова Т. Г. Нижненылгинские говоры // Образцы речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. С. 73-90.
- Тараканов И. В. Из наблюдений над особенностями среднезападных говоров срединного диалекта удмуртского языка // Тараканов И. В. Исследования и размышления об удмуртском языке: сб. ст. Ижевск: Удмуртия, 1998. C. 200-204.
- Тепляшина Т. И. Заметки по верхнеижским удмуртским говорам // Вопросы удмуртского языкознания: сб. ст. и материалов / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1973. Вып. 2. С. 196-223.
- Тепляшина Т. И. Фонетическая характеристика тыловайского говора // Записки / Удмурт. НИИ ист., лит. и языка при Совете Министров Удмурт. АССР. Ижевск, 1957. Вып. 18. С. 114-140.
- Тепляшина Т. И. Язык бесермян Москва: Наука, 1970. 288 с.
- Aminoff T. G. Votjakin äänne- ja muoto-opin luonnos // JSFOu. [Helsinki]. 1896. 2 (XIV). P. 1-48.
- Aminoff T. G. Votjakilaisia kielinäytteitä // JSFOu. [Helsinki]. 1886. 1. S. 32-55.
- Munkácsi B. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest, 1887. 335 l.
- Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben. Helsingfors, 1893. I: Lieder, Gebete und Zaubersprüche. XX + 200 S.
- Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben. Helsingfors, 1901. II: Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und Erzählungen. IV + 200 S.
- Wiedemann F. J. Zur Dialektenkunde der wotjakischen Sprache // Bulletin de la Classe des Sciences Historiques, Philologiques et Politiques de lʼ Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 1858. S. 240-256.