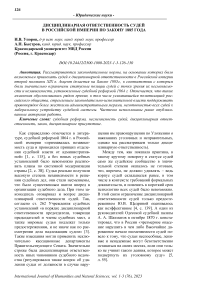Дисциплинарная ответственность судей в Российской империи по закону 1885 года
Автор: Упоров И.В., Быстров А.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 1-3 (76), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются законодательные нормы, на основании которых было возможным привлекать судей к дисциплинарной ответственности в Российской империи второй половины ХIХ в. Акцент делается на Законе 1885г., в соответствии с которым были значительно ограничены статусные позиции судей с точки зрения их несменяемости и независимости, установленные судебной реформой 1864 г. Отмечается, что такие изменения обусловливались рядом причин, в том числе усиливавшейся политизацией российского общества, стремлением законодательно-исполнительной власти поддерживать правопорядок более жесткими административными мерами, неготовностью всех судей к либеральному устройству судебной системы. Частично использованы ранее опубликованные авторские работы.
Судебная реформа, несменяемость судей, дисциплинарная ответственность, закон, дисциплинарное присутствие
Короткий адрес: https://sciup.org/170198158
IDR: 170198158 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-1-3-126-130
Текст научной статьи Дисциплинарная ответственность судей в Российской империи по закону 1885 года
Как справедливо отмечается в литературе, судебной реформой 1864 г. в Российской империи «признавалась независимость суда и проводился принцип отделения судебной власти от административной» [1, с. 115], а без новых судебных установлений было невозможно реализовать планы по системной модернизации страны [2, с. 38]. Судьи реально получили высокую степень независимости в решении судебных дел, они стали несменяемы, что было существенным шагом вперед в организации судебного дела. При этом законодатель оговаривал и вопрос дисциплинарной ответственности судей. Так, согласно ст. 262 Учреждения судебных установлений «в порядке дисциплинарной ответственности председатели, товарищи председателей и члены судебных мест, а также мировые судьи подлежат только предостережениям, и не иначе как по рассмотрении дела надлежащим судом» [3]. Такие взыскания могли применить исключительно кассационные департаменты Правительствующего Сената. Значительно строже была дисциплинарная ответственность иных чиновников судебного ведомства (регулировался также вопрос об удалении судьи от должности в случае нару- шения им правонарушения по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных, однако мы рассматриваем только дисциплинарную ответственность).
Между тем, как показала практика, к такому крутому повороту в статусе судей само же судейское сообщество в значительной степени оказалось не готовым, что, впрочем, не должно удивлять - ведь корпус судей складывался ранее, в том числе в контексте требований формальных доказательств, и поменять в короткий срок психологию всех судей было невозможно. В этой связи ограничение дисциплинарной ответственности судей только предостережением Ю.В. Щедриной оценивалось как неэффективное [4, с. 139]. А один из руководителей Одесской судебной палаты А. А. Шахматов в октябре 1870 г. констатировал, что в России «чрезмерное опасение нарушить в чем либо Высочайше дарованное начало несменяемости судей повело к тому, что судьи неспособные, ленивые и ненадежные могут безответственно оставаться на своих местах, если они только не учинят такого деяния, которое может подвергнуть их уголовному суду» [5, л. 55].
В дальнейшем такое положение было значительно осложнено покушением на императора Александра II, после чего в Российской империи был принят ряд ограничительных мер в части охраны общественного порядка и безопасности (известное «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.), давшее начало периоду, который именуется обычно как «контрреформы».
Соответственно к концу ХIХ в. была некоторым образом расширена сфера дисциплинарной ответственности судей. Так, 20 мая 1885 г. был принят Закон «О порядке издания наказа судебным установлениям и о дисциплинарной ответственности чинов судебного ведомства» [6], который внес существенные коррективы в институт дисциплинарной ответственности судей, и главное заключалось в том, что законодатель исключил несменяемость судей; было образовано Высшее дисциплинарное присутствие Сената, куда министру юстиции получил полномочия передавать для рассмотрения проступки судей в тех случаях, «когда возникает основательный способ сомневаться в том, что судья в месте своего служения будет отправлять свои обязанности с должным спокойствием и беспристрастием, ввиду особенностей его семейного или имущественного положения или же ввиду неблагоприятно сложившихся отношений его к своим сослуживцам или к местному обществу» [6].
Как отмечал Г.С. Фельдштейн, даже весьма далекие от либералов авторы не могли не заметить, что путь, по которому пошло законодательство, издав акт 20 мая 1885 г., находился в полном противоречии с Судебными уставами 1864г. [7, с. 128] В рассматриваемом законе указывалось, что применение к судьям дисциплинарных мер (помимо предостережения добавлялся вычет из жалованья) могло быть возможно, «когда возникает основательный способ сомневаться в том, что судья в месте своего служения будет отправлять свои обязанности с должным спокойствием и беспристрастием, ввиду особенностей его семейного или имущественного положения или же ввиду неблагоприятно сложившихся отношений его к своим сослуживцам или к местному обществу» [8, с. 182]. И таким образом, установленный реформой 1864 г. принцип несменяемости судей перестал действовать, поскольку появлялась законная возможность в любой момент «в порядке исключения» отстранить от исполнения судебных обязанностей любого судью.
Следует заметить, что указанный закон существенно повлиял в целом на правовое положение судей, причем в направлении сужения их независимости. Сам закон предварительно прорабатывался во всех деталях. Так, еще в мае 1884 г., то есть, за год до принятия Закона 1885 г., Соединенные департаменты Госсовета определили в обновленной редакции ст. 295 Учреждения судебных установлений, согласно которой «когда судья за совершенные им преступления или проступки, не относящиеся к службе, будет в уголовном порядке присужден к взысканию или наказанию ... или в уголовном либо дисциплинарном порядке подвергнут взысканию за служебные упущения ... по своему значению и многократности обнаруживающие явное пренебрежение обвиняемого к своим обязанностям, то обстоятельства эти передаются Министром юстиции на обсуждение Высшего дисциплинарного присутствия» [6], которое при «в нетерпящих отлагательства случаях» могло временно отстранить судью от должности даже не истребовав его объяснений. При обсуждении этой же статьи в марте 1885 г. Госсовет дополнил ст. 295: «Если Министром юстиции будет усмотрено, что: а) судья совершил такое служебное упущение, которое хотя и не влечет удаление его от должности по суду, но по своему значению или многократности свидетельствует о несоответствии виновного ... занимаемому им положению или о явном с его стороны пренебрежении к своим обязанностям, или б) что судья дозволил себе вне службы такие, сделавшиеся гласными, поступки, которые хотя и не имели последствием привлечение к уголовной ответственности, но представляются несовместимыми с достоинством судейского звания, или же в) что судья, поставив себя образом действий в месте служения в такое положение, которое дает основания сомневаться в дальнейшем спокойном и беспристрастном исполнении им своих обязанностей, тем не менее уклоняется от предлагаемого ему перевода в другую местность на равную должность, то обстоятельства эти Министр юстиции передает на обсуждение Высшего дисциплинарного присутствия» [6], которое могло, истребовав объяснение судьи, уволить судью от должности или «переместить» в другую местность.
Помимо отмеченных выше изменений, этим законом были отменены, изменены или дополнены 14 статей Учреждения судебных установлений, где излагались правовые основы организации надзора, привлечения к ответственности и увольнения должностных лиц судебного ведомства. Так, по новой редакции ст. 249 старшие председатели судебных палат, председатели департаментов судебных палат и окружных судов были изъяты из ведения судебных коллегий, в которых состояли, что укрепляло власть высших чинов судебного ведомства. Надзор в порядке подчиненности стал осуществляться не только по делам, доходившим до вышестоящих органов установленным порядком, но и по жалобам, донесениям и сообщениям частных лиц, обращенным непосредственно в эти места, а также по предложениям прокуроров. Взыскания за дисциплинарные проступки также возросли (выше отмечалось, что помимо предостережений, могла быть применена такая мера, как вычет из жалованья. при этом было возможным привлечение к дисциплинарной ответственности за несвоевременную явку на службу [9, с. 113].
Как видно, для дисциплинарного надзора за судебными органами большое значение имели определения Высшего дисциплинарного присутствия по общим вопросам привлечения должностных лиц судебного ведомства к ответственности и увольнения их. Уже в ноябре 1885 г. присутствие вынесло определение, согласно которому даже резолюции по дисциплинарным делам объявлялись в закрытых заседаниях. Решением от 23 января 1895 г.
было отменено действие манифестов, отменявших или смягчавших наказания различным категориям осужденных по отношению к судьям, уволенным от должности в особом порядке [10, с. 117]. Согласно Определению от 5 апреля 1907 г. судьи, состоящие в политической партии и не желающие из нее выйти, подлежали увольнению в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 295 Учреждения судебных установлений. Увольнению также подлежали судьи, хотя и вышедшие из политических партий, но «дозволившие затем себе действия, свидетельствующие о продолжении политической деятельности». Это фактически означало возможность увольнения судей только по подозрению в причастности к политической деятельности» [11, с. 105].
Примером того, насколько негативно все эти нововведения могли сказаться на авторитете судебной власти, может послужить следующий случай, подробно описанный Д.С. Рыжовым. На рассмотрение Высшего дисциплинарного присутствия поступило дело о председателе Тверского окружного суда Копылове. В материалах дела сообщалось, что в 1886 г. он подвергался преследованиям со стороны женщины, устраивавшей публичные скандалы, во всеуслышание объявлявшей, что он состоял с ней во внебрачной связи, предварительно дав устное обещание вступить в законный брак. Несмотря на отсутствие каких-либо свидетельских показаний, подтверждающих факт подобного предосудительного поступка судьи, отрицание им в объяснении, представленном Высшему дисциплинарному присутствию, самого факта личного знакомства с обвиняющей его особой, наличие положительных характеристик со стороны коллег, высказанное председателем Московской судебной палаты предположение, что эти обвинения вызваны чувством мести за действия, связанные с исполнением Копыловым судейских обязанностей, Высшее дисциплинарное присутствие приняло решение о перемещении Копылова на равноценную должность в другую губернию. Очевидно, что в данном случае присутствие скорее подорвало престиж суда, нежели предохранило его от подрыва авторитета, поскольку создало прецедент, когда судья фактически подвергся наказанию на основе бездоказательных утверждений [9, с. 114].
Вместе с тем такого рода изменения имели свое объяснение – в рамках самодержавия судебная власть с независимыми судьями в России была до некоторой сте- пени чужеродным элементом, поскольку основные новые принципы ее организации были заимствованы из буржуазного права европейских стран. Создание Высшего дисциплинарного присутствия адаптировало судебную систему к сложившемуся порядку государственного управления [9, с. 114]. Как бы ни было, но очевидной являлась тенденция ограничения законодательной и исполнительной властью Российской империи независимости судейского корпуса. При этом следует признать, что и сами судьи в контексте сильной и усиливавшейся политизации многих категорий населения в тот период давали по- вод для применения к ним мер дисципли нарного воздействия, и в этом смысле су дебная система в целом и институт дисци плинарной ответственности судей в част ности отражали состояние в целом россий ского общества.
Список литературы Дисциплинарная ответственность судей в Российской империи по закону 1885 года
- Филонова О.И. Судебные реформы в истории России: преемственность и новизна // Вестник экономики, права и социологии. - 2020. - № 3. - С. 114-116.
- Карпачев М.Д. Судебная реформа 1864 г. В России: шаг на пути к правовому государству // Судебная власть и уголовный процесс. - 2014. - № 3. - С. 29-40.
- Учреждение судебных установлений от 20.11.1864 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. В девяти томах. Том восьмой. Судебная реформа. - М.: Юрид. лит-ра., 1991. -С. 32-82.
- Щедрина Ю. В. Независимость судей в России во второй половине XIX в.: нормативное закрепление и практика реализации. - Курск: КГУ, 2014. - 177 с.
- Российский государственный исторический архив. Ф. 1149. Оп. 10. Д. 26. Л. 55.
- Закон от 20.05. 1885 г. «О порядке издания наказа судебным установлениям и о дисциплинарной ответственности чинов судебного ведомства» // ПСЗ-3. N 2959.
- Фельдштейн Г.С. Лекции по уголовному судопроизводству. - М.: Типогр. В. Рихтера, 1915. - 433 с.
- Министерство юстиции за сто лет. 1802-1902. Исторический очерк. - СПб., 1902. -182 с.
- Рыжов Д.С. Высшее дисциплинарное присутствие Правительствующего Сената как орган надзора за судебными учреждениями в пореформенной России // Право и политика. - 2007. - № 9. - С. 110-114.
- Сборник определений Соединенного присутствия и Общего собрания I и кассационных департаментов (1902 - 1912 гг.) и Высшего дисциплинарного присутствия (18851912 гг.) Правительствующего Сената по надзору за судебными установлениями. - СПб.: Сенатск.тип., 1913. - 450 с.
- Шавров А.В. Надзор и дисциплинарная ответственность в судебном ведомстве пореформенной России (1864-1917 гг.) // Советское государство и право. - 1985. - №12. -С. 100-105.