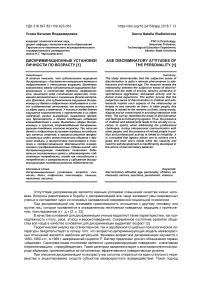Дискриминационные установки личности по возрасту
Автор: Усова Наталия Владимировна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что субъективное ощущение дискриминации - достаточно актуальное явление в подростковом и пенсионном возрасте. Выявлены взаимосвязи между субъективным ощущением дискриминации и состоянием тревоги, напряженности, защитной либо спонтанной агрессией, пониженной активностью и сниженным фоном настроения. Доказано, что субъективное ощущение дискриминации у детей и подростков складывается из таких особенностей отношения, как высказывание в их адрес угроз и замечаний. У пожилых людей данное ощущение взаимосвязано с проявлением в их адрес замечаний, резких выражений, выражения презрения, брезгливости и общей тенденции избегания взаимодействия с ними. Выявлены сферы дискриминации и чувства, сопровождающие дискриминирующее поведение, согласно возрасту. Так, наличие детей и подростков вызывает тревогу на отдыхе, при занятии спортом, в процессе решения профессиональных задач, межличностного общения с другими людьми, а присутствие пенсионеров в политике и профессиональной деятельности взаимосвязано с раздражительностью. Сделан вывод, что дискриминирующее поведение позволяет добиваться поставленных целей и удовлетворять собственные потребности, тогда как способность и потребность к саморазвитию у субъектов дискриминирующего поведения развита недостаточно.
Дискриминационные установки, возраст, личность, дети, подростки, пенсионеры, санкции, наказание, насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/14940369
IDR: 14940369 | УДК: 316.647.82+159.923-053 | DOI: 10.24158/spp.2018.7.13
Текст научной статьи Дискриминационные установки личности по возрасту
Отсутствие дискриминации является важным условием повышения качества жизни человека. Вопросы равноправия и борьбы с дискриминацией все чаще занимают умы современных ученых и составляют одно из ключевых направлений современной социальной психологии.
Под дискриминацией мы понимаем «разновидность отношения к другому человеку или группе лиц, которое проявляется в определенном негативном поведении, ведущем к притеснению, преследованию и т. д.» [2, с. 22].
В качестве оснований для дискриминации ученые выделяют такие характеристики, как принадлежность к полу, расе, этносу и вероисповеданию. Современное состояние развития общества все чаще в качестве основания для дискриминации выдвигает возраст [3].
Теоретический анализ как отечественной, так и зарубежной социально-психологической литературы свидетельствует в пользу того, что возрастно-дискриминирующая модель межвозрастных отношений является наиболее актуальной. Феномен возрастной дискриминации изучается с 1950–1960-х гг., в 1969 г. американский социолог Р. Батлер предложил для его обозначения термин «эйджизм». Синонимичными понятиями являются «дискриминирующее поведение», «негативная стереотипизация», «предубеждение». Такие категории свидетельствуют о многокомпонентной природе эйджизма, проявляющейся на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях.
При описании дискриминации по возрасту мы склонны опираться на идеи статусного неравенства и акцентирование сходств субъектов межвозрастного взаимодействия. Такой подход предполагает «одинаковые ожидания при неравных возможностях» разновозрастных членов процесса взаимодействия. Учитывая, что разные участники взаимодействия обладают различным статусом по отношению друг к другу, критерий социальной успешности для них примерно одинаков, а объективные трудности в достижении этой унифицированной успешности становятся основанием для функционирования отношений, в которых реализуется дискриминация по признаку возраста [4, с. 62].
В целом дискриминационные установки по возрасту проявляются на трех уровнях. Первый – макроуровень, на нем дискриминационные установки представлены в виде узаконенных форм ограничения в правах людей разных возрастов. На втором уровне они реализуются в виде эффектов негативной стереотипизации взаимодействия возрастных социальных групп. И, наконец, на третьем уровне дискриминационные установки функционируют в межличностном взаимодействии людей, которые реализуют конкретные возрастно-дискриминирующие практики в своем поведении. Особое внимание обращает на себя система взаимодействия с детьми и пожилыми как почва для реализации возрастно-дискриминирующего отношения на всех трех уровнях.
Статья посвящена эмпирическому изучению содержательных характеристик дискриминационных установок личности по возрасту в процессе взаимодействия.
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе мы организовали фокус-группу, в которую входили студенты. Студентам была предложена тема для дискуссии – «Дискриминация по возрасту в процессе взаимодействия». В ходе беседы участники должны были оценить субъективное ощущение дискриминации, степень и причины собственного дискриминирующего поведения по отношению к представителям других возрастных групп, обсудить вопросы профилактики дискриминационного взаимодействия.
На втором этапе в исследовании приняли участие 110 человек. В качестве методического инструментария мы использовали авторскую анкету с элементами репертуарных решеток, направленную на выявление дискриминационных установок личности и субъективного уровня ощущения дискриминации, проективную методику «Несуществующее животное» и тест оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН).
На третьем этапе полученные эмпирическим путем данные были подвергнуты математикостатистическому анализу.
Рассмотрим полученные результаты исследования.
Результаты исследования уровня субъективного ощущения дискриминации, работы фокус-группы, а также проведенных тестов позволили выявить три возрастные группы, подвергающиеся возрастной дискриминации: дети, подростки и пожилые люди.
Данные сравнительного анализа субъективного ощущения дискриминации по возрасту (таблица 1) показали, что, по мнению подростков и пожилых людей, они достаточно часто испытывают по отношению к себе негативное и предвзятое отношение. Опрошенные данных групп сталкиваются с несправедливостью, лишением их определенных прав, психологическим насилием. Подобное отношение они связывают с принадлежностью к определенной возрастной группе.
Таблица 1 – Уровень субъективного ощущения дискриминации по возрасту
|
Группа |
Среднее значение |
Стандартное отклонение |
t-критерий Стьюдента |
||
|
Дети/ подростки |
Подростки/ пожилые |
Дети / пожилые люди |
|||
|
Дети |
4,3 |
2,98 |
2,03 |
1,65 |
2,65 |
|
Подростки |
7,8 |
1,05 |
|||
|
Пожилые люди |
8,1 |
1,48 |
|||
В качестве объективного показателя ощущения дискриминации мы рассматривали показатели эмоциональной сферы дискриминационных групп.
Исследование эмоциональных особенностей дискриминируемой личности проводилось с помощью методики «Несуществующее животное». В ходе работы мы оценивали выбранную цветовую гамму. В дискриминируемых группах в изображении животного доминировали черный, коричневый и темно-синий цвета. Изображаемое животное было угрожающим, с явными признаками агрессии, о чем свидетельствовали сила нажима, штриховка, наличие крыльев, рогов, когтей и игл. Более качественный анализ, проведенный с применением корреляционного метода, позволил выявить, что субъективное ощущение дискриминации по возрасту взаимосвязано с состоянием тревоги (r = 0,32 при р < 0,05), напряженности (r = 0,29 при р < 0,05) и защитной либо спонтанной агрессией (r = 0,28 при р < 0,05). Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что дети, подростки и пожилые люди наиболее подвержены возрастной дискриминации, характеризуются повышенным состоянием тревоги, напряженности, демонстрируют чувство страха и вербальную агрессию.
Результаты исследования взаимосвязи субъективного ощущения дискриминации и показателей, полученных по шкалам «Самочувствие», «Активность» и «Настроение», свидетельствуют о том, что у представителей дискриминационных групп по возрасту наблюдаются пониженная активность (r = 0,37 при р < 0,05) и сниженный фон настроения (r = 0,26 при р < 0,05). Взаимосвязи субъективного ощущения дискриминации и самочувствия нами не обнаружено.
На основании полученных данных видим, что дискриминируемые по возрасту группы характеризуются низким уровнем активности, что может проявляться в их замкнутости, бездеятельности и пассивности. Таким образом, дискриминируемые по возрасту опрошенные характеризуются нарушениями в психоэмоциональной сфере и низкой психологической адаптацией в семье и в обществе в целом. Данный результат указывает на необходимость коррекционно-реабилитационной работы с субъектами, подвергающимися дискриминации по возрасту.
Рассмотрим, как проявляется дискриминация разных возрастных групп (таблица 2).
Таблица 2 – Особенности проявления дискриминации по возрасту
|
Проявление дискриминации |
Уровень субъективного ощущения дискриминации |
||
|
Дети |
Подростки |
Пожилые люди |
|
|
Делают замечания |
0,67 |
0,56 |
0,49 |
|
Резко выражаются |
0,02 |
0,21 |
0,54 |
|
Оскорбляют, обзывают |
0,23 |
0,09 |
0,20 |
|
Угрожают |
0,75 |
0,61 |
0,03 |
|
Выражают презрение |
0,03 |
0,06 |
0,58 |
|
Ограничивают взаимодействие |
0,12 |
0,09 |
0,64 |
|
Избегают контактов |
0,08 |
0,13 |
0,57 |
|
Испытывают брезгливость |
0,25 |
0,17 |
0,71 |
|
Обсуждают их поведение со знакомыми |
0,78 |
0,56 |
0,67 |
Представленные в таблице 2 результаты позволяют заключить, что субъективное ощущение дискриминации у детей и подростков складывается из таких особенностей отношения, как высказывание в их адрес угроз и замечаний. У пожилых людей данное ощущение взаимосвязано с проявлением в их адрес замечаний, резких выражений, выражения презрения, брезгливости и общей тенденции избегания взаимодействия с ними.
Полученный результат позволяет говорить о том, что исследуемые группы воспринимают свое взаимодействие с другими как неравноправное, нарушающее принципы сотрудничества и взаимопомощи. На практике такое взаимодействие приводит к снижению эмоциональной привлекательности межвозрастного взаимодействия [5].
Считаем возможным рассматривать дискриминирующее по отношению к детям и подросткам отношение как положительно, так и отрицательно влияющее. Положительное влияние дискриминирующее отношение оказывает тогда, когда согласуется с основными принципами воспитания и обеспечивает созвучие воспитательных концепций, целей, задач и методов воспитания с периодами развития ребенка, его личностными потребностями и потребностями общества.
Негативное влияние проявляется в игнорировании основных семейных функций, явных или скрытых дефектах воспитания, затруднении удовлетворения ведущих потребностей детей и подростков. Здесь, опираясь на работы С. Харта и его коллег [6], дискриминирующее отношение по отношению к детям может проявляться: в активном отвержении и отказе выполнять просьбы и потребности ребенка, неприязни по отношению к нему и его потребностям; пассивной форме отказа в теплых чувствах, проявляющейся в излишней холодности, нежелании или неспособности ответить на предпринимаемые ребенком попытки общения; высмеивании слабостей ребенка и его прилюдном унижении, использовании в его адрес прозвищ, нападках на его достоинство, знания или умственные способности; разнообразных формах насилия и принуждения по отношению к ребенку, его физической изоляции.
Вышеописанное позволяет говорить о том, что дискриминация по возрасту является довольно распространенным явлением в современном обществе. В силу неосознанности его негативных последствий и деструктивного влияния дискриминирующее отношение у взрослых по отношению к детям не вызывает особой обеспокоенности, а его проявления рассматриваются как воспитательные методы.
Здесь для обозначения границ между воспитанием и дискриминацией обратимся к идеям О.В. Щегловой и предлагаемой ей дифференциации между санкциями, наказанием и насилием. Мы считаем, что санкции являются методами воспитательного воздействия, а наказание и насилие – формами негативного дискриминирующего поведения. Различия данных понятий представлены в таблице 3 [7].
Таблица 3 – Понятие о санкциях, наказании и насилии
|
Признак |
Санкция |
Наказание |
Насилие |
|
Предсказуемость |
Известна заранее |
Может быть непредсказуемым |
Непредсказуемо или не связано с поведением |
|
Адекватность поступку |
Адекватна поступку и возрасту ребенка |
Как правило, чрезмерно или неадекватно возрасту |
Чрезмерно и неоправданно |
|
Связанность с личностью или с поведением |
Связана с конкретным поступком |
Связано не только с поступком, но и с личностью |
Связано с личностью |
|
Мотивы применения |
Изменение поведения |
Изменение поведения личности и эмоциональная разрядка воспитателя |
Эмоциональная раз рядка насильника |
|
Последствия для личности |
Подкрепление того или иного способа поведения |
Эмоциональные последствия – унижение, стыд, вина, страх |
Травматизация лично сти |
|
Системность |
Системна |
Эпизодично |
Системно |
Информация, представленная в таблице 3, позволяет говорить о некоторых правилах наложения санкций.
-
1. Санкция всегда известна заранее и следует после предупреждения. Количество предупреждений варьируется в зависимости от возраста, но не должно превышать трех раз.
-
2. Санкция накладывается без эмоций.
-
3. Санкция не затрагивает личность.
-
4. Санкция соразмерна проступку.
-
5. Санкция соответствует возрасту. Пример – для наказания детей до 5 лет путем изоляции или ограничения (угол, стул и т. п.) время рассчитывается как 1 минута на год жизни.
-
6. Один проступок – одна санкция.
-
7. Санкция не наносит вреда здоровью, не предусматривает лишение необходимого, а лишает привилегий.
Категорически запрещается:
-
– накладывать санкцию за непреднамеренный поступок,
-
– накладывать санкцию на больного ребенка,
-
– не исполнять обещание о санкции,
-
– увеличивать санкцию без повторного проступка.
Далее рассмотрим сферы дискриминации по возрасту. В ходе исследования были обнаружены взаимосвязи, свидетельствующие о том, что наличие детей вызывает тревогу на отдыхе (r = 0,21 при р < 0,05), при занятии спортом (r = 0,26 при р < 0,05), в процессе решения профессиональных задач (r = 0,24 при р < 0,05), в процессе межличностного общения с другими людьми (r = 0,22 при р < 0,05).
Обнаруженный результат свидетельствует о том, что перечисленные ситуации и наличие в них детей вносят определенный риск и опасность для благоприятного развития событий. Скорее всего, это связано с тем, что наличие детей в вышеперечисленных ситуациях провоцирует чувство неуверенности в себе, нарушая устойчивость самооценки взрослого человека и подавляя его способность проявить инициативу [8]. Мы склонны считать, что дискриминация детей здесь носит защитный характер, а подлинным мотивом поведения взрослых и причиной возникающего чувства тревоги является мотив избегания неудач. В целом эмоциональное состояние с преобладанием чувств беспокойства и страха совершить ошибку, поступить не так, как принято общественными требованиями и нормами (будь то профессиональная сфера, сфера межличностных отношений или досуг и спорт), находит свои истоки в более ранних возрастных периодах, собственных неразрешенных проблемах и страхах. Очевидно, что часто возникающее ощущение тревоги в присутствии детей порождает безнадежность, отчаяние и чувство обреченности. В такой ситуации жизнь может казаться сплошным разочарованием, а ее целью – постоянное совладание со стрессом. Очень важно здесь иметь возможность проводить время без детей, иначе в затянувшейся ситуации нервного напряжения дети начинают подвергаться дискриминирующему поведению с характерными для него негативным и предвзятым отношением и иными формами домашнего насилия. Возникшая конфликтная ситуация приведет к временной эмоциональной разрядке и повторится через некоторое время. С целью поддержания психологического здоровья субъектам дискриминации следует посетить консультацию психолога, на которой целесообразно проработать собственный опыт межвозрастных отношений, найти личностные ресурсы и выстроить психологические границы.
Присутствие пенсионеров в политике (r = 0,20 при р < 0,05) и в профессиональной деятельности (r = 0,23 при р < 0,05) взаимосвязано с раздражительностью. Обнаруженные взаимосвязи свидетельствуют о том, что наличие пенсионеров в политике и на работе воспринимается опрошенными как преграда и помеха для удовлетворения собственных потребностей. Очевидно, данный результат обусловлен тем, что к субъекту политики и субъекту профессиональной деятельности предъявляются большие требования, которые расходятся с имеющимися стереотипами о пожилых людях. Образуется определенный «замкнутый круг»: тот, кто слишком много ожидает от политика или сотрудника и встречает на его месте пожилого человека, испытывает раздражение, потому что последний не отвечает его чрезмерным требованиям. Отсюда возникают постоянная критика, оскорбления и иные проявления дискриминации как попытки переделать пожилого человека или полностью убрать его из данных сфер.
Считаем целесообразным обратить внимание на то, что раздражение призвано сообщить о достаточно целенаправленном и не вполне осознанном использовании собственных ресурсов [9]. Здесь мы сталкиваемся с двумя возможными ситуациями, когда источник раздражения находится вовне или внутри самой личности. Первый случай иллюстрирует ситуация, когда более молодым сотрудникам приходится выполнять профессиональные обязанности пожилых коллег. Здесь, действительно, ресурсы, отвлекаемые на выполнение чужих обязанностей из собственного рабочего потока, не приносят никакой пользы, и потому часть их начинает трансформироваться в психологическое раздражение. Интересен факт, что возраст здесь играет второстепенную роль и на месте пожилого коллеги может оказаться любой сослуживец. Выход из подобной ситуации лежит в осознании того, что на человека возлагают столько обязанностей, сколько он готов взять на себя, в умении говорить нет и защитить свои границы.
Наиболее интересной, с нашей точки зрения, является ситуация, когда раздражение является не прямой реакцией на событие, а скорее связано с наличием внутреннего конфликта. Мы склонны рассматривать раздражение, связанное с присутствием пожилых людей в политике и профессиональной сфере, лишь как триггер, берущий начало именно во внутреннем конфликте субъекта дискриминации. В этой ситуации энергия, создающая эмоцию раздражения, черпается из хронических внутренних конфликтов, например депривированные потребности, подавляемые чувства вины, неуверенности в себе и завтрашнем дне, зависть и т. д. Ответить на данный вопрос можно, лишь проведя более комплексное и глубокое исследование природы возникновения чувства раздражения по отношению к пожилым людям в политике и профессиональной сфере и на индивидуальных консультациях с психологом.
Чувство злости взаимосвязано с наличием детей (г = 0,26 при р < 0,05) и пенсионеров (г = 0,21 при р < 0,05) в процессе межличностного общения с другими. Межличностное общение представляет собой «процесс двустороннего взаимодействия между людьми» [ 10, с. 12]. Появление в нем третьих лиц приводит к нарушению этого процесса. Данный результат может свидетельствовать о том, что пенсионеры и дети выступают помехой для выстраивания межличностных отношений. В подобной ситуации естественной реакцией организма будет выступать оборонительный рефлекс (злость), заставляющий сражаться с возникшей помехой [11]. Мы считаем, что умеренное чувство злости, как и гнева, может придать человеку силы, смелости, привести к повышению самооценки [12, с. 264], способствовать пересмотру и планированию дальнейших действий для организации межличностного общения с максимальной выгодой для себя и отсутствием вреда для детей и пожилых людей. Тем не менее следует помнить, что, несмотря на то что злость призвана разрушить сложившуюся ситуацию и привести к развитию продуктивных межличностных отношений, она может найти свое выражение в агрессивном и дискриминирующем поведении по отношению к более уязвимым детям и пенсионерам.
Раздраженно-враждебное настроение может провоцировать и наличие соседских детей, что подтверждается наличием обнаруженной нами взаимосвязи между чувством злости и наличием детей по соседству (г = 0,23 при р < 0,05).
Отрицание принадлежности к группе пенсионеров отрицательно взаимосвязано с чувством раздражения по отношению к ним (г = -0,36 при р < 0,01) и положительно с чувством злости (г = 0,33 при р < 0,01). Отрицание принадлежности к группе пенсионеров мы склонны понимать как защитную реакцию на воздействия, противоречащие потребностям субъекта оставаться молодым. Блокируя все негативные аспекты восприятия собственного процесса старения, опрошенные воспринимают лишь позитивные изменения. В данном случае отрицание выступает механизмом защиты от чувства раздражения по отношению к данной возрастной группе. Процесс старения неизбежен, и чувство, связанное с осознанием собственного старения, найдет способ проявиться. Именно этим механизмом мы объясняем обнаруженную корреляционную взаимосвязь между чувством злости и отрицанием принадлежности к пенсионерам.
Результат, свидетельствующий о том, что чем больше дискриминирующий опыт субъекта, тем чаще он сам является субъектом дискриминирующего поведения (r = 0,29 при р < 0,05), соотносится с идеями о драматическом треугольнике Карпмана и позволяет говорить о том, что субъект дискриминирующего поведения искренне верит в свою правоту, а его поведение продиктовано только благими намерениями и желанием помочь субъектам, подвергшимся дискриминирующему поведению по возрастному признаку. При этом следует обратить внимание на то, что лица, отличающиеся по возрасту, воспринимаются ими как объекты и способы достижения собственных целей и идеалов, у них отсутствует эмпатия и сочувствие, а возникающие чувства лишь проекция собственных мыслей и убеждений. Можно утверждать, что дискриминирующее поведение позволяет добиваться поставленных целей и удовлетворять собственные потребности, тогда как способность и потребность к саморазвитию у субъектов дискриминирующего поведения развита недостаточно. Очевидно, дискриминирующий субъект сам систематически подвергался дискриминации в детстве и перенял этот образ жизни как единственно верный.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00094 A.
-
2. Бзезян А.А. Лукизм и этническая дискриминация // Северо-Кавказский психологический вестник. 2012. Т. 10, № 3. С. 21–23.
-
3. Микляева А.В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен : монография. СПб., 2009. 160 с.
-
4. Микляева А.В. Модели отношений между людьми разного возраста: теоретические предпосылки социально-психо
логического анализа // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2013. Т. 6, № 4. С. 61–66.
-
5. Foner N. Ages in Conflict: A Cross-cultural Perspective on Inequality between Old and Young. N. Y., 1984. 305 p.
-
6. Hart S. Psychological Maltreatment in Schooling // School Psychology Review. 1987. Vol. 16. Р. 169–180.
-
7. Материал взят из курса «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений» Центра психологической помощи и специальной профессиональной подготовки (Саратов), составитель курса – О.В. Щеглова.
-
8. Гусова А.Д. Психоэмоциональное переживание, проявляющееся через тревогу // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5, № 3 (16). С. 252–254.
-
9. Красноштейн Е. Скрытый смысл эмоции раздражения [Электронный ресурс]. URL: https://ru-psiholog.livejour-
nal.com/984459.html (дата обращения: 06.06.2018).
-
10. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение : учеб. для вузов. СПб., 2011. 544 с.
-
11. Виды эмоциональных переживаний, специфичные для возникновения психосоматического риска / Г.И. Ефремова, Г.В. Тимошенко, Е.А. Леоненко, И.А. Бочковская, Н.С. Булгакова // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2014. № 6 (45). С. 256–260.
-
12. Изард К.Э. Психология эмоций : пер. с англ. СПб., 1999. 464 с.
-
13. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2016. 400 c.
Список литературы Дискриминационные установки личности по возрасту
- Бзезян А.А. Лукизм и этническая дискриминация//Северо-Кавказский психологический вестник. 2012. Т. 10, № 3. С. 21-23.
- Микляева А.В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен: монография. СПб., 2009. 160 с.
- Микляева А.В. Модели отношений между людьми разного возраста: теоретические предпосылки социально-психологического анализа//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2013. Т. 6, № 4. С. 61-66.
- Foner N. Ages in Conflict: A Cross-cultural Perspective on Inequality between Old and Young. N. Y., 1984. 305 p.
- Hart S. Psychological Maltreatment in Schooling//School Psychology Review. 1987. Vol. 16. Р. 169-180.
- Материал взят из курса «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений» Центра психологической помощи и специальной профессиональной подготовки (Саратов), составитель курса -О.В. Щеглова.
- Гусова А.Д. Психоэмоциональное переживание, проявляющееся через тревогу//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5, № 3 (16). С. 252-254.
- Красноштейн Е. Скрытый смысл эмоции раздражения . URL: https://ru-psiholog.livejournal.com/984459.html (дата обращения: 06.06.2018).
- Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: учеб. для вузов. СПб., 2011. 544 с.
- Виды эмоциональных переживаний, специфичные для возникновения психосоматического риска/Г.И. Ефремова, Г.В. Тимошенко, Е.А. Леоненко, И.А. Бочковская, Н.С. Булгакова//Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2014. № 6 (45). С. 256-260.
- Изард К.Э. Психология эмоций: пер. с англ. СПб., 1999. 464 с.
- Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2016. 400 c.