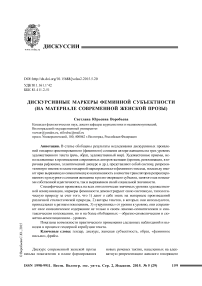Дискурсивные маркеры феминной субъектности (на материале современной женской прозы)
Автор: Воробьева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 5 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщены результаты исследования дискурсивных проявлений гендерно ориентированного (феминного) сознания автора-женщины на трех уровнях художественного текста (речь, образ, художественный мир). Художестенные приемы, использованные в произведения современных авторов-женщин (ирония, реноминация, вторичная рефлексия, эллиптический дискурс и др.), представляют собой систему, репрезентативную именно в плане гендерной маркированности феминного письма, поскольку имеют ярко выраженную символическую наполненность в качестве трансляторов репрессированного культурного сознания женщины в роли говорящего субъекта, занятого как поисками собственной идентичности, так и выражением своей социальной значимости. Специфически проявляясь на всех онтологически значимых уровнях художественной коммуникации, маркеры феминности демонстрируют свою системную, типологическую природу за счет того, что 1) дают о себе знать на материале произведений различной стилистической природы, 2) авторы текстов, в которых они используются, принадлежат к разным поколениям, 3) «укрупняясь» от уровня к уровню, они сохраняют свое символическое содержание не только в своем лексико-семантическом и синтаксическом воплощении, но и на более обобщенных - образно-символическом и сюжетно-композиционном - уровнях. Показаны возможности практического применения сделанных наблюдений и выводов в процессе гендерной атрибуции текста.
Гендер, дискурс, женская субъектность, образ,
Короткий адрес: https://sciup.org/14970274
IDR: 14970274 | УДК: 811.161.1’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.5.20
Текст научной статьи Дискурсивные маркеры феминной субъектности (на материале современной женской прозы)
DOI:
Дискурс современной женской прозы новых речевых тактик, нацеленных на адек- весьма показателен в плане формирования ватную репрезентацию женского говорящего сознания. Среди них особенно актуальны те, которые конкурируют с привычными, традиционными (патриархатными). Их этический смысл связан с возможностью преодоления существующей в культуре гендерной асимметрии в сфере языка и речи. Кроме того, они связаны с процессом максимально органичной самоадаптации женской субъектности к миру патриархатных ценностей, что особенно остро востребовано сегодня практически во всех общественных институциях: политика, управление и менеджмент, семья, брак, образование, воспитание детей и подростков и др., активно обсуждается на разных научных площадках (см., например: [5]) и обусловлено тем, что женская субъектность исторически «конструировалась» согласно ценностям, патриархатным в своей основе, отражающим маскулинное сознание, зафиксированное, в частности, в системе естественного национального языка. Патриархатное, имея тотальный характер, традиционно воспринимается в культуре как общечеловеческое [9; 10], и поэтому процессы эмансипации и последующей адаптации женской субъектности в поле современной культуры представлены поиском таких средств ее речевой репрезентации, которые позволят обществу в целом осознать наличие в культуре альтернативной и вполне конкурентноспособной эпистемы, последовательно подавляемой на протяжении столетий. Отражение этой эпистемы в тексте культуры Ж. Деррида обозначил термином «феминный стиль письма», связав его с особым способом отношения субъекта к реальности, предполагающим децентрацию культурных стереотипов, «размывающих» и «расшатывающих» «доминирование мужского способа мышления в культуре» [6, с. 125].
Итак, «феминное», будучи понятием исключительно дискурсивным, в отличие от «женского», относящегося к сфере биологического пола, проявляет себя как результат деконструкции фреймов, характерных для патриархатного дискурса. Причем деконструкции с позиции, не противостоящей традиционной антагонистически, но как бы встроенной в нее изнутри.
Актуализация именно этого ракурса восприятия текста культуры позволит устранить «недосчитанность женщины в конструкции истины» [6, с. 126] и достроить тем самым общую парадигму знания. Важным итогом такой перемены станет преодоление гендерной асимметрии в общественной коммуникации, что, несомненно, экологизирует ментальную ситуацию в целом.
Охарактеризованный в философско-эстетическом плане подход к пониманию «феминного» может иметь и практическое применение, поскольку он позволяет разработать механизмы проявления и фиксации гендерной составляющей дискурса (текста). Остановимся подробнее именно на этом, практическом применении гендерных технологий.
Оговоримся сразу: абсолютно верной атрибуции текста по половой принадлежности его автора (мужчина – женщина) такой подход гарантировать не может, но в комплексе с другими аналитическими техниками (почерковедческая экспертиза, контент-анализ и др.) может дать, на наш взгляд, достоверные результаты, поскольку опирается на те слабо или даже вовсе не рефлексируемые говорящим сознанием уровни дискурса, которые и являются наиболее показательными в процессе определения авторства.
В случае гендерной атрибуции текста, как и в случае атрибуции конкретного идиостиля, надежные результаты возможны только при анализе текста содержательно целостного и максимально неклишированного, то есть минимально этикетного и подражательного, поскольку именно в нем сознание говорящего / пишущего последовательно проявлется на всех принципиально важных для механизма подобной атрибуции уровнях текста.
Идеальным объектом такого анализа может стать художественный текст либо текст, дискурсивно имеющий ту же интенцию самовыражения (дневник, описание локальной ситуации, воспроизведение неких воспоминаний и т. п.), которую нетрудно смоделировать искусственно, задав респонденту, например, свободную тему для письма 1.
Коль скоро такой текст является смысловой целостностью, то задача анализа сводится к постижению характера этой целостности, репрезентирующей помимо прочего и целостность гендерно маркированной личности. В этом случае механизм смыслового анализа (дифференциации) на каждом его этапе должен быть подчинен идее смыслового синтеза (интеграции), восходящего к принципиально разным гендерным моделям феминного и маскулинного типа. Понятие «гендерная модель» видится нам продуктивным, так как восполняет в наших рассуждениях терминологическую лакуну, отсылая к представлению о двух типах фреймов, способных по-разному транслировать одну и ту же информацию с позиций маскулинного и феминного сознаний. Фреймы гендерно не маркированы, но, складываясь в модель, они становятся носителями той специфической информации, которая и позволяет атрибутировать то или иное сообщение в гендерном ключе. Термин «фрейм» в данном случае более уместен, чем «структура», поскольку речь идет о специфическом видении специфического же содержания (информации).
Гендерные модели не следует приравнивать к гендерным стереотипам. Последние выработаны в рамках традиционной патриархатной культуры и репрезентируют в большинстве своем те привычные представления о «женственности» и «мужественности», которые до недавнего времени воспринимались как всеобщие и только во второй половине ХХ в., в основном благодаря феминистским практикам, начинают осознаваться как односторонние и асимметричные [3, с. 14–16; 14].
Степень соотнесенности модели и стереотипа в данном контексте принципиальна, так как, по большому счету, в культуре человечества на протяжении почти всей его истории безраздельно главенствует только один стереотип – патриархатный. Трудность его преодоления замедляла выработку верифицированных и эффективных механизмов гендерной атрибуции дискурса.
При условии, что гендеру интересны дискурсивные проявления любого «социального пола», сколь многообразной парадигмой он ни был бы представлен сегодня, неизбежно возникает вопрос о «нулевом меридиане», относительно которого можно выявить «женское» и «мужское» в тексте культуры. Что можно считать таковым? То ли это воображаемая ось симметрии, относительно которой располагается весь спектр проявления «женского» и «мужского», то ли речь должна идти об ином типе модели, построенной на иной иерархии или включенности одного в другое?
В теоретических работах, касающихся специфики «женского» не раз подчеркивалось: оно не противостоит «мужскому», поскольку по своей природе отрицает бинарность, дихотомию и иерархичность продуцируемых структур (в том числе, и текстовых) [13]. Какая картина наиболее адекватна сложившейся на сегодня в общем виде концепции?
Традиционный (патриархатный) дискурс, позиционирующий себя как дискурс общечеловеческий, веками игнорировал и подавлял собой феминный, «материнский» язык, который тем не менее существовал в культуре имплицитно и чаще всего неопознанно, эзотерически, сливаясь с нею, мимикрируя и растворяясь в ней.
С момента, когда женщина постепенно начала обретать свой голос и свой стиль письма, соотношение означенных сфер также постепенно начинает меняться: женщина-автор все более активно включается в литературный процесс. Продуцируя тексты, она, по мнению Э. Сиксу, прописывает в них свое наслаждение и свою телесность, обретая исключительную возможность выражать себя в письме через женственный стиль, специфика которого определяется тем, что «женщина не подавила свою бисексуальность, а признает другого в себе» [13, c. 33–34]. Этот тезис объясняет небинарный характер соотношения «мужского» (маскулинного) и «женского (феминного), который тем не менее довольно трудно усваивается культурой, так как в сознании ее носителей все еще жестко детерминирован их «привязкой» к биологическому полу.
В настоящий момент в европейской культуре постепенно складывается картина феминного доминирования: «женское» не поглощает «мужское» – оно его перерастает, усвоив пат-риархатный дискурс как одну из своих собственных вариаций, навязанных традицией. Сегодня, выработав в себе за века имплицитного, латентного присутствия в тексте культуры способность к его продуцированию, женщина начинает постепенно «говорить своим голосом», поскольку сдерживающие и подавляющие ее в этой практике социальные институты оказываются все менее антагонистичны ей и ее субъектности, обретающей свободу выбо- ра. Таким образом, «бисексуальность» автора-женщины, о которой писала Э. Сиксу, неизбежно будет репрезентирована своеобразным «билингвизмом» ее дискурса, то есть способностью одновременно говорить «не хуже мужчины» и «говорить иначе» [4].
Условно названный «женственным» или «феминным», подобный стиль письма хотя и не обусловлен напрямую биологическим полом его носителя, но теоретически наиболее ярко и последовательно должен проявить себя в текстах, созданных именно женщинами, причем теми из них, чье сознание и маркировано как феминное. Иными словами, это те авторы-женщины, которые решили для себя дилемму выбора в пользу «писать иначе, чем мужчина».
Методологически гендерно ориентированная модель дискурса может быть описана с помощью терминов и понятий когнитивистики и структурализма, поскольку она, во-первых, нацелена на выявление способов текстовой репрезентации сознания автора текста и последующей рецепции текста читателем, а во-вторых, учитывает типологию приемов смыслопорождения на всех уровнях анализируемого дискурса.
Именно эти модели, получающие свою реализацию через ряд приемов, и становятся объектом анализа, в ходе которого мы стремимся обнаружить и верифицированно концептуализировать некие фреймы, репрезентативные для феминной модели дискурса.
Эти фреймы, на наш взгляд, можно выявить на тех уровнях дискурса, которые имеют особую значимость, поскольку содержат информацию, актуальную для реципиента (читателя, слушателя, зрителя), то есть соотнесенную с безусловно значимыми для него, как личности, кластерами смысла. Воспринимая текст целостно, сознание «собирает» (часто нерефлекторно) эту информацию со всех уровней текста, но особую концептуальную значимость приобретают те его элементы, которые Ю.М. Лотман назвал «семиотическими монадами». По мысли ученого, они порождаются всеми уровнями семантического универсума и обеспечивают целостность его восприятия [7, с. 165], создавая неповторимый характер искомого фрейма. Он же, в силу своей структуры, дает возможность воспринять себя в тех бесконечно многообразных аспектах, в которых сознание личности способно себя репрезентировать (в том числе, и гендерно). В этом и заключается причина столь разнообразных и порой доходящих до антагонизма интерпретаций одного и того же высказывания и принципиального непонимания «женской прозы» «мужской критикой» [12, c. 70].
Итак, смысловые элементы-монады создаются приемами, функционирующими на трех основных, обусловленных антропоцентрической парадигмой культуры уровнях текста-дискурса:
-
– стилистика слова (речь в ее фонетическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом оформлении);
-
– образ (личность в ее этическом завершении);
-
– картина мира (космос в его концептуальной завершенности).
Учитывать это особенно важно, когда речь идет о выявлении того или иного типа гендерной субъектности, поскольку если и искать в тексте отраженную феминность как некое дискурсивное качество, то, несомненно, ярче всего оно должно проявится через эстетическую (завершающую) деятельность автора на всех трех уровнях рефлексии, хотя возможно, что феминность в индивидуальном варианте может быть сосредоточена на одном из них, но так ли иначе даст о себе знать и на других уровнях.
Остановимся более подробно на первом уровне – уровне речевой репрезентации гендерного сознания автора-женщины.
В рецептивной памяти о тексте остается, прежде всего, стилистика речи, продуцируемая набором риторических и поэтических приемов (метафора, символ, эпитет), соотносимых с речевыми и языковыми преференциями реципиента, на фоне которых воспринимаемая речь может мыслиться и оцениваться в категориях своя / чужая, дружеская / враждебная, приемлемая / неприемлемая, актуальная / архивная, а также «маскулинная» / «феминная». Таким образом, механизм гендерной идентификации также должен включаться на этом этапе восприятия-анализа и сигнализировать реципиенту о степени адекватности его восприятия авторской интенции. Особенность номинации, ассоциативность, ритмический рисунок, та или иная степень ориентации на «чужое» (в данном случае – на пат-риархатное) слово, соотношение семантического и символического в слове – все это может свидетельствовать о гендерном статусе автора-субъекта речевой коммуникации. Своеобразное проявление такой «проекции» мы видим в целом ряде приемов, имеющих важную типологическую общность: все они в той или иной степени нацелены на деконструкцию традиционной дискурсии.
Следствием деконструкции языкового знака, способом его узнавания через первичное расподобление становится особый тип иронии и самоиронии , выступающий в статусе доминируюущего повествовательного модуса автора-женщины. «Феминный» дискурс отличает подчеркнутое недоверие к пафосности, учительствующему превосходству: он почти всегда несерьезен. Объяснить это можно следующим: вступая в текст культуры, созданный патриархатным сознанием, закрепившим женскую сущность в определенных стандартах, женщина-автор, осмелившаяся заявить о себе «самовитым» словом, не может не ощущать зыбкости своей словесной практики, создающейся фактически без опоры на сколь-нибудь ощутимую традицию и преемственность. Таким образом, ее ирония – это своего рода способ самозащиты, подстраховки, когда несерьезность становится слабым гарантом снисходительности со стороны пат-риархатной рецепции. Это ирония, действующая на опережение: поэтому она проявляется зачастую уже в заголовках произведений: «Любовь в резиновых перчатках», «Дом со всеми неудобствами», «Тургенев, сын Ахматовой» (Н. Горланова), «Любовь в седьмом вагоне», «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (О. Славникова), «Секс по SMS», «Клуб недобитых сердец (А. Дюрсо), «Кысь» (Т. Толстая), «Графоманка» (Г. Щекина).
Однако иронический модус не может не сыграть и некоторой отрицательной роли в контексте истории восприятия женских текстов: тотальная несерьезность «феминного» дискурса провоцирует несерьезность отношения к нему традиционалистской критики, всегда неохотно берущейся за то, в чем нет, по ее мнению, по-настоящему серьезного и онтологически значимого и поэтому не готовой увидеть за этим особого рода юродстом и шутовством неприятие указанного однажды культурной традицией места: нежелание быть ни Прекрасной Дамой, ни Блудницей, ни Великой Матерью [8].
Не менее ярко в этом ряду заявляет о себе прием, который условно можно обозначить как реноминация. Стремление «женщины говорящей» переименовать предметы этого мира, дать новые имена окружающим ее людям проявляется с разной степенью очевидности. Некоторые авторы предпринимают попытки пе-ревоссоздать дискурс в целом (Л. Петрушевская «Пуськи бятые»), реконструировать древнерусские словоформы и корни (Е. Колядина «Цветочный крест») или создать на их праос-нове подобие нового языка постапокалиптического общества (Т. Толстая «Кысь»). Автор-женщина не утаивает, как правило, и своих лексических преференций, настойчиво повторяя полюбившееся ей слово, как, например, делают Дюрсо («Секс по SMS»), используя обретающую в контексте символическое значение лексему аутентичный , и Г. Щекина («Ор»), адаптируя под свои нужды просторечные и архаичные словоформы покули , ор .
Своеобразное проявление тенденции к реноминации находим и у О. Славниковой в сборнике рассказов «Любовь в седьмом вагоне». Коробейник – так назван герой с открытым ноутбуком на груди, в его портрете очевидно сочленение времен через соединение номинаций, разделенных веками (рассказ «Русская пуля»); герой другого рассказа («Новая шапка Падерина») красив, потому что татароват – авторский окказионализм также отсылает во тьму веков; «старорежимное» слово вакация , употребленное в самом начале рассказа «Любовь в 7 вагоне», задает концепцию образа героини Леночки, которой уже «под шестьдесят», но поскольку действие происходит в 90-е (на это указывает целый ряд перестроечных реалий), то даже по самым приблизительным подсчетам героиня не могла быть рождена раньше советско-пионерских 30-х или военных 40-х и вряд ли могла усвоить это слово из повседневного быта, следовательно, его также можно атрибутировать как авторский маркер.
Своеобразную трактовку этого феномена – устремленности феминного сознания к прошлому – находим у Ж. Бодрийяра в трактате «Соблазн». Развивая идею «до-социаль-ного», «параллельного» традиционной культуре пространства, формируемого женским письмом, философ соотносит его с ритуальными и церемониальными архаичными практиками, которые трактуются как примитивные только в силу высокомерия культурных и цивилизационных стереотипов [2].
Реноминация в рамках феминного письма проявляет себя не только как перекодировка словесного ряда «под архаику», но и вообще как любое переназывание: автор-женщина, которая стремится писать не вслед традиции, а по-другому, по-своему, будет неизбежно переименовывать окружающие ее реалии, вследствие чего для ее дискурса характерно, например, употребление непривычных имен: Грезка , Сон-Обломов , Боб , Чет-верьпална (Н. Горланова), Халцедонова (Г. Щекина), Молекула , Прожигатель , Пиноккио (А. Дюрсо), Бенедикт (Т. Толстая), Медея (Л. Улицкая) и др.
У О. Славниковой прием реноминации заметно активизируется через синтез живого и механического, при котором происходит их уподобление, когда живое репрезентирует себя посредством сделанного, сконструированного или неживого: пистолет-пулемет задергал хоботком , хитиновые крылья дверей , останки электрички , краны-богомолы . При этом портретные детали, напротив, подаются автором через неживое, предметное: уши на сломанном каркасе , руки – брошенные весла , лицо – погашенная лампочка .
В результате между живым и неживым, обыденным и экстраординарным создается своего рода «буферная» семантическая зона, где происходит перекодировка обычной, логически выверенной реальности, в реальность, предполагающую или допускающую чудо.
В этот же ряд приемов (ирония, реноминация) типологически вполне вписывается и цитирование, но не сам факт отсылки к «чужому» тексту, а та интенция, которая переопределяет (реноминирует) модус художественности цитируемой строки, реминисценции или аллюзии. Здесь наблюдаем ту же попытку автора с феминной ориентацией письма и дискурса «выломаться» из семантики, традиционной для культурного поля современ- ности, и либо иронически переиграть цитату, либо стереть ее образность до паремийного клише, употребляемого автором и героем всуе при каждом удобном и неудобном случае. Так, в «Графоманке» Г. Щекиной читаем: вбежала в сильном запале под светлые своды поликлиники; потащилась прочь, под светлые своды гастронома; под светлыми сводами школы назревало объединенное родительское собрание. «Чужой текст» (в данном случае цитата из полузабытой, 1956 г., песни на стихи Е. Долматовского) выполняет роль культурного клише, которое в новом контексте обретает дополнительные коннотативные значения, актуализируя мотив разрыва мечты и действительности, но уже не в классическом, трагедийном модусе, а в ироническом, поскольку построена на смысловых несостыковках, противоречиях, которые способен уловить лишь настроенный на сотворчество и столь же ироничный читатель, готовый к «словесному приключению» (В. Набоков).
У Г. Щекиной подобный прием используется и в отношении строки заметался пожар голубой : «чужой» (есенинский) текст здесь так же, как и в предыдущем примере не только легко опознан, но и подвергнут изначальной деконструкции, вследствие чего воспринимается как вторичный, уже вошедший в искаженном (принявшем вид сравнения) виде в бытовой, семейный сленг Ларичевой, формируя иронический модус, объединяя в себе такие качества, как неуместность и наглядность: героиня-графоманка Г. Щекиной разрывается между бытовыми проблемами и абсолютно далекой от них поэтической сферой, не в силах выбиться из их плена. Эти и другие литературные цитаты-аллюзии появляются в тексте романа не как непосредственные вкрапления «чужого текста», а как уже адаптированные индивидуально-сленговые, «постпрецедентные» образования. Их функция – ироничная демонстрация включенности говорящего в определенное социальное поле, самоидентификация, в основе которой опережающее внешнюю критику травестирование.
Недоверие к тексту традиции, стремление к его профанированию как проявление акта недоверия автора-женщины к внешней реальности, как отражение страха перед ее банальностью встречаем у А. Дюрсо («Секс по
SMS»): ее героиня, например, постоянно подчеркивает свое негативное отношение к субкультуре КСП (клуб самодеятельной песни), делающей, как известно, ставку на искренность и доверительность интонации, тиражирование которых неизбежно превращает в штампы их риторику и образный строй.
Вследствие этого особую ценность для автора-женщины имеет общение, в процессе которого прямые значения, а вместе с ними и «нудительная действительность» бытия максимально редуцируются и уступают место личностной активности, пониманию без слов, дискредитированных беспощадной к женщине реальностью:
– Ты знаешь, что такое турбулентные потоки? – начала я издалека.
– Ты уронила сигарету? (А. Дюрсо «Секс по SMS»).
Женщина как «говорящий субъект» отдает предпочтение эллиптическим фразовым структурам, поскольку не стремится к максимально точной атрибуции мира. Кроме того, в ситуации общения ей гораздо важнее быть услышанной и понятой без уточняющей и усложняющей дескрипции, уводящей от сути. В подобном речевом поведении отражается и такое важное качество, как установка на диалогичность, поэтому выбирается эллиптический дискурс : его структура предполагает наличие смысловых лакун, заполнить которые может лишь сознание заинтересованного собеседника.
Кроме названных приемов отметим также характерный для дискурса, помеченного грифом «феминный», прием вторичной рефлексии: женщина-автор избегает прямых са-моописаний, ее зеркалом, как правило, является мужчина, его реакция на ее облик. Яркий пример подобной опосредованности в самохарактеристике встречаем у А. Дюрсо («Секс по SMS»): облик Аглаи – Глафиры – Глаши буквально собирается по крупицам, непрямо, через оговорки и небрежные случайно брошенные замечания, через оценку другим сознанием: это были штаны израильской армии, они были очень широки в талии и коротки даже мне; по-моему, ты мужикам должна нравиться; и еще ты [Аглая] улыбаешься, как Джульетта Мазина в последних кадрах Ночей Кабирии; я действительно стала похожа на пролетарку, изможденную многостаночностью; я не голубоглазая блондинка.
Формируется вторичная рефлексия, психологическое основание которой – чувство вины, присущее угнетаемому сознанию, специфическое внимание к собственному телу, которое для мужчины есть предмет сексуального влечения, а для женщины «храм души», ее вместилище, поэтому усиленное внимание к телу – часть патриархатного комплекса, которому сознание женщины противится, но не может не следовать. Это порождает постоянный эмоциональный диссонанс, восходящий к ценностному статусу социальной роли женщины: быть ли ей «целью» или согласиться на статус «средства». Во всех описанных случаях женское проявляет себя как стратегия, конкурирующая с традиционной (патриархат-ной) парадигмой, как форма присутствия иного (немужского) оценивающего (номинирующего) мир говорящего сознания. Оно стремиться использовать отличные от традиционных приемы номинации и оценивания, прибегая, вследствие навязанной социумом нелегитимной дихотомии, к любым «немужским» культурным парадигмам, чтобы за ликом Адама, давшего имена миру, проступил, наконец, образ Евы.
Отмеченные на первом уровне приемы гендерной самоидентификации, характерные для художественных текстов, созданных авторами-женщинами, составляют искомые фреймы, согласно концепции Ч. Филлмора, являющие собой «общее основание образа», который может быть представлен «любым из отдельных слов» и который «образует особую организацию знания» [11, с. 54], в нашем случае – знания о специфике женской субъектности и способах ее самоидентификации и ми-ромоделирования.
Второй уровень восприятия и анализа художественного текста, как говорилось выше, связан с категорией образа (персонаж, лирический герой), то есть с восприятием того, кто может быть соотнесен читателем с собой как с личностью. На этом этапе анализа важно рассмотреть способы эстетического завершения женских и мужских образов, их аксиологию и соотнесенность с формой авторского присутствия, их внутреннюю статичность / динамичность, способность спонтанно продуцировать сюжет, возможно, их пространственно-временные характеристики для уточнения их соответствия традиционным гендерным стереотипам.
Очевидная разница между мужскими и женскими образами в художественном пространстве, заданном автором-женщиной, на наш взгляд, заключается в характере соотношения комплексов означающего и означаемого образа как смыслового и символического целого. В случае образов героинь-женщин эти комплексы дивергируют друг с другом, порождая смысловые лакуны, оксюморонно сочетая противоположные с точки зрения привычной дихотомии ценностные ориентиры и понятия. Такая стратегия существенно диалоги-зирует образ, усложняет его, уводит от прямой атрибуции и оценки, что соответствует задачам «феминного письма»: «сложное посредством сложного».
Яркий пример подобной «образной» стратегии находим у Л. Улицкой (роман «Медея и ее дети»). Рисуя внутренний и внешний облик своей героини, писательница избегает завершать его прямой авторской оценкой, привлекая читателя к активному сотворчеству. В итоге внешний и внутренний облик героини одновременно оказываются заданными сразу, как некая стратегия, и проявляются постепенно, все более дополняясь новыми деталями, которые складываются в свой «узор», каждый фрагмент которого – аттрактор заданного изначально мотива. Так, Медея Л. Улицкой совершает в пространстве своеобразные, «кружевные», движения: она ходит по ближней и дальней округе, которая известна ей, «как содержимое собственного буфета». Сходную траекторию Медея прокладывает и во времени. Не будучи суеверной она не просто знает о скрытых, но очевидных связях отдаленных друг от друга событий, но и старательно отслеживает эти связи, воссоздавая ткань жизни во всем своеобразии ее «кружевного» рисунка, всякий раз поражаясь ее бесконечному разнообразию и неистощимому творческому потенциалу. В итоге рассеянная в пространстве и времени огромная семья, состоящая из близкой и дальней родни, из «привитых веточек» приемных детей, из представи- телей разных национальностей, их друзей, родственников и знакомых, предстает единым целым, существующим как некий гипертекст в гиперпространстве, который воссоздан памятью Медеи:
Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.
В итоге у читателя создается устойчивое представление не только о бесконечности жизненного пространства, его ризоматич-ной всеохватности, но и о его концептуальном единстве, постигаемом через единство эстетического порядка.
В случае образов мужчин наблюдается, напротив, последовательное «смыкание» означающего и означаемого комплексов, ведущее к однозначности их трактовки, эстетической примитивизации и подчинительному, вторичному статусу в поле власти.
Такая стратегия эстетического завершения гендерно значимых образов формирует иронический модус: автор-женщина, создавая образ мужественности в рамках феминной парадигмы, не склонна рассматривать его как сложно организованное, эстетически незавер-шимое целое, напротив, его целевая установка на покорение и подчинение себе строя жизни порождает в феминном письме такие черты, как предсказуемость и монологичность. Таким образом, на этом уровне текста происходят семиотические процессы, соотносимые с теми, что отмечены на уровне речевой рецепции: в рамках феминной парадигмы образ как знак также формируется посредством своего рода реноминации (глубина отдана женщине, мужчина примитивен и исчерпан, атрибутирован как «вещь»), что порождает неизбежную ироничность в его подаче автором-женщиной; вторичной рефлексии (уход от самооценок, прямых характеристик, предпочтение «отраженным» оценкам), эллиптического дискурса (символическая незавершенность образов женщин, их последовательная диалогизация) [4].
Итогом реализации означенных приемов становится изображение мира и человека как «ускользающей реальности», оценить и атрибутировать которую однозначно в строгих рамках традиционных бинарных оппозиций фактически невозможно. Представляется также, что эти приемы имеют онтологический статус, поскольку направлены и на преодоление тотальной утилитарности мира, в котором женщину также активно стремятся низвести до уровня полезной вещи, средства. Реноми-нированная действительность усложняется за счет полученной многоплановости, смысловой неисчерпаемости. В мире, преображенном женским сознанием, нельзя быть примитивным, прагматичным или вторичным: человек в нем непостижим, неповторим и нередуциру-ем, как художественный образ. Этическая доминанта подобного дискурса может быть определена так: сложное посредством еще более сложного, поэтому женские образы в рамках феминного письма не типологизируются, а предельно индивидуализируются, изменяя привычную реалистическую парадигму, подчиняя ее новой цели – представить не завершающую детерминацию объекта, а ин-детерминацию , то есть выявление его феноменальной нередуцируемой природы.
Третий этап гендерно-чувствительного восприятия-анализа связан с образом более высокого порядка – с созданным автором произведения неким целостным континуумом (сюжетно-композиционный, пространственновременной, архитектонический образ произведения), соотносимый с миром, Космосом. Отмеченные выше приемы, сохраняя свою семиотическую направленность, трансформируются во фреймы иного масштаба. К ним, например, относится отказ от такого традиционного для патриархатной культурной парадигмы метанарратива, как любовная история, стремление реконструировать (= реномини-ровать) картину мира, ее пространственные координаты в свете соответствия иной аксиологии, основанной на неиерархической системе ценностей, иное отношение к тексту культурной традиции, ироническое обыгрывание привычных способов саморепрезентации. Травестия традиционных любовных историй, их своеобразная «реноминация» – тоже способ иронической самоидентификации автора- женщины, последовательно уходящей от метанарративов (Г. Щекина «Графоманка», А. Дюрсо «17 м/с», Т. Саломатина «Приемный покой», Е. Чижова «Время женщин», Л. Улицкая «Зеленый шатер», Е. Колядина «Цветочный крест» и др.). Этот процесс, на наш взгляд, показателен и в плане конвергенции «женского» и постмодернистского типов письма: он демонстрирует отказ от самого важного в рамках патриархатной парадигмы метанарратива – классической любовной истории, вне которой образ женщины практически не рассматривался литературой.
Отмеченный выше прием травестийно-го же цитирования также проявляет себя на этом уровне в форме многочисленных переигрываний и разуподоблений известных литературных или мифологических сюжетов. В рассказах О. Славниковой примеров использования рассматриваемого приема встречаем достаточно много и на основании этого можем говорить об их кодификацированнос-ти: сюжет Анюты и Командора явственно отсылает к известному нарративу («Анна и Командор»), рассказ «Русская пуля» актуализирует образ неудержимой гоголевской тройки, уже сметающей на своем пути всех, кто не успел посторониться, значительно усугубив заложенную великим писателем в финальную метафору своей поэмы сему гибельной опасности.
Автор-женщина в большей степени стремится к объективации себя через реальность мира, мужчина – напротив, к объективации мира через себя. Возможны, конечно, и «переходные», диффузные тактики, но решающие векторы всегда будут направлены в разные стороны, на достижение разных целей: маскулинное сознание будет «завершать» картину внешнего мира, и в этом процессе субъективность выступит средством постижения метафизических «вечных» истин, средством постижения и освоения Космоса, формулировки новых концептов; феминное же сознание, напротив, через объективно заданную извне реальность стремится объективировать собственную субъективность, придавая традиционным концептам новый смысл, подвергая их деконструкции.
Таким образом, начиная уже со второго этапа анализу подвергается не собственно языковой или речевой материал, а то ментальное образование, которое порождено рецепцией текстовых единиц, функционирующих в нем разрозненно, но не обособленно, или вовсе невербально. Эти единицы создают некое гипертекстовое пространство, которое также репрезентирует структуру целостности всего художественного текста, принимая на себя роль «означающего» для его содержания, концептуализируя его, превращая в целостное высказывание – Слово. Именно в таком понимании произведение становится эстетическим объектом, завершившим согласно авторской интенции «материал жизни». По мысли М.М. Бахтина, «нельзя стать смыслом, не приобщившись единству, не приняв закон единства: изолированный смысл – contradictioin adjecto (явное противоречие)» [1, с. 10]. «Закон единства» иносказательно отсылает к идее холизма, то есть того не воплощенного в материале произведения приращенного смысла, который и есть отражение авторской субъектности. Это точка семантической проекции онтологии на текстовую реальность, где «форма, с одной стороны, действительно материальная, сплошь осуществленная на материале и прикрепленная к нему, с другой стороны, ценностно выводит нас за пределы произведения как организованного материала, как вещи» [1, с. 24].
Система аналитических приемов, создающих основные «семиотические монады», сопряженные с тремя уровнями самоидентификации (речевой, личностной и «космической»), структурная взаимосвязь которых обеспечивает целостность восприятия художественного текста, экологична в своей основе, поскольку последовательно и многоаспектно отражает мировоззренческую позицию автора, суммируя его гносеологические, этические и эстетические преференции, будучи при этом вполне перспективной в плане выявления авторской самоидентификации как в ее целом, так и в частных (в нашем случае – гендерном) аспектах.
Список литературы Дискурсивные маркеры феминной субъектности (на материале современной женской прозы)
- Бахтин, М. М. Проблемы материала, содержания и формы в словесном художественном творчестве/М. М. Бахтин//Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. -М.: Худож. лит., 1975. -С. 6-71.
- Бодрийяр, Ж. Соблазн/Жан Бодрийяр. -М.: Ad Marginem, 2001. -317 c.
- Брайдотти, Р. Женские исследования и политики различия/Р. Брайдотти//Введение в гендерные исследования: в 2 ч. Ч. II. Хрестоматия/под ред. С. В. Жеребкина. -Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. -С. 13-22.
- Воробьева, С. Ю. Женские и мужские образы в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» (гендерный аспект)/С. Ю. Воробьева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8, Литературоведение. Журналистика. -2013. -Вып. 12. -С. 52-62.
- Гендер как инструмент познания и преобразования общества: материалы Междунар. конф. «Гендерные исследования: люди и темы, которые объединяют сообщества» (Москва, 4-5 апреля 2005 г.)/ред.-сост. Е. А. Баллалина, Е. А. Воронина, Л. Г. Лунякова. -М.: РОО МЦГИ при участии ООО «Солтэкс», 2006. -304 с.
- Деррида, Ж. Шпоры: стили Ницше/Жак Деррида//Философские науки. -1991. -№ 2. -С. 118-129.
- Лотман, Ю. М. Семиосфера/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПБ, 2000. -704 с.
- Савкина, И. «Простите за неприличное слово..» (женская проза и гендер в современной литературной критике). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.genderstudies.info/lit/lit2.php -Загл. с экрана.
- Сиксу, Э. Хохот Медузы/Э. Сиксу//Введение в гендерные исследования: в 2 ч. Ч. II. Хрестоматия/под ред. С. В. Жеребкина. -Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. -С. 799-821.
- Сиксу, Э. La sexe ou la tete? (Женщина -тело -текст)/Э. Сиксу//Художественный журнал. -1995. -№ 6. -С. 32-35.
- Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания/Ч. Филлмор//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. Когнитивные аспекты языка. -М.: Прогресс, 1988. -С. 52-92.
- Шоуолтер, Е. Наша критика/Е. Шоуолтер//Современная литературная теория. Антология. -М.: Флинта: Наука, 2004. -С. 69-75.
- Cixous, H. The Newly Born Woman/H. Cixous, C. Clеment. -Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. -168 p.
- Sontag, S. Against Interpretation/S. Sontag//Sontag, S. Against Interpretation and Other Essays. -N. Y.: Picador, Fanar, Straus and Giroux, 2001. -Р. 3-14.