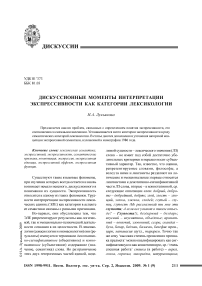Дискуссионные моменты интерпретации экспрессивности как категории лексикологии
Автор: Лукьянова Нина Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Предлагается анализ проблем, связанных с определением понятия экспрессивности, его соотношения со смежными явлениями. Устанавливается место категории экспрессивности в ряду семантических категорий лексикологии. В статье даются дополнения и уточнения авторской концепции экспрессивной семантики, изложенной в монографии 1986 года.
Лексическая семантика, экспрессивный, экспрессивность, семантические признаки, коннотация, экспрессив, экспрессивная единица, экспрессивный эффект, экспрессивная функция
Короткий адрес: https://sciup.org/14970164
IDR: 14970164 | УДК: 81'373
Текст обзорной статьи Дискуссионные моменты интерпретации экспрессивности как категории лексикологии
Существуют такие языковые феномены, при изучении которых всегда остается и вновь возникает немало неясного, дискуссионного в понимании их сущности. Экспрессивность относится к одному из таких феноменов. Трудности интерпретации экспрессивности лексических единиц (ЭЛЕ) как категории в аспекте ее семантики связаны с разными причинами.
Во-первых, они обусловлены тем, что ЭЛЕ репрезентируют результаты как логической, так и эмоционально-психической деятельности сознания в их целостности. В лексикологии (семасиологии и ономасиологии) они (результаты) именуются терминами денотативно-сигнификативное (объективное) и коннотативное (субъективное) содержание (значение, семантика) слова. Но разграничение этих двух гетерогенных частей единой, неде- лимой сущности – лексического значения (ЛЗ) слова – не имеет под собой достаточно убедительных критериев и нередко носит субъективный характер. Так, известно, что оценки, репрезентируемые словами, философы, а вслед за ними и лингвисты разделяют на логические и эмоциональные: первые относятся лингвистами к денотативно-сигнификативной части ЛЗ слова, вторые – к коннотативной, ср. следующие оппозиции слов: добрый, доброта – добрейший, добряк; злой, злость – злющий, злюка, злючка, злодей; глупый – глупец, глупость (Не рассказывай ты мне эти глупости; А если все узнают о твоем отъезде? – Глупости!); бездарный – бездарь; вкусный – вкуснятина, объеденье; ароматный – вонючий, зловонный; ссора, скандал – буза, базар, бедлам, балаган, бенефис ирон., цирк, катавасия шутл., тарарам. Точно так же сему ‘высокая степень проявления признака предмета’ можно квалифицировать как сигнификативную и как коннотативную, ср.: ‘очень спешная работа’ спешка (в работе) – аврал, гонка, горячка, лихорадка, штурмовщина;
сильный, очень сильный (по степени проявления) – адский , дьявольский , чертовский , чудовищный , ужасный , безумный , идиотский (боль, нежность, гордость, скорость, аппетит, голод, холод, погода, ветер); много (чувств, вопросов) – лавина (чувств), град (вопросов). Образность тоже свойственна словам с денотативной семантикой и словам с коннотативной семантикой, то есть экспресси-вам, ср. пары однокоренных слов номинатив – экспрессив: змеевик ‘изогнутая спиралью трубка’ – змеюшник ‘собравшиеся вместе злые, враждующие друг с другом люди’; окаменелые (кости) – окаменеть (от горя); нескладный (‘с недостатками, внутренними изъянами’) – нескладица (жизни) [ Он [Юра] привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы [в семье] отсутствие отца не удивляло его (Б. Пастернак «Доктор Живаго»)]; нервничать – нервотрепка; вихриться (о пыли, снеге) – диал. завихе’ри-вать ‘быстро идти, бежать’ (Вон бабка как завихеривает !) . Следовательно, сохраняется проблема поиска критериев отнесения названных сущностей к денотативно-сигнификативной и коннотативной части ЛЗ слов. Кроме того, высказывается мнение о том, что, кроме суффиксов субъективной оценки, не существует других собственных средств (не считая стилистических фигур и приемов речи) выделения экспрессивности [13, с. 33]. Однако это мнение не соответствует реальному положению дел.
Те признаки, которые порождают экспрессивность, относят к коннотативной части (коннотации) ЛЗ слов. Дискуссионно, по нашему мнению, широко распространенное утверждение о том, что коннотация, а следовательно и экспрессивность, является дополнительным содержанием слова, «его сопутствующими семантическими или стилистическими оттенками, которые накладываются на его основное значение» [1, c. 203–204], а также и утверждение о том, что «фонд экспрессивных языковых средств дополнителен» по отношению к нейтральным общеупотребительным, по самой своей идее он настроен на более редкое использование: экспрессивность «прямо пропорциональна необычности, нестандартности, редкости слова, словосочетания, морфемы, конструкции» [9, c. 404]. Пред- ставление о дополнительности, «неглавности» коннотации в структуре ЛЗ слова демонстрирует соответствующая терминология, привнесенная в лексикологию из лингвостилистики: экспрессивность называют оттенком, окраской, окрашенностью, ореолом, тем самым интерпретация экспрессивности выводится из системно-семантического русла в функциональную сферу.
Далее, ЭЛЕ стилистически маркированы (значимы, окрашены). Дискуссию вызывает вопрос о статусе стилевого свойства ЭЛЕ: одни лингвисты выделяют стилистическую маркированность в качестве компонента («стилевого компонента», по Матвеевой) значения ЭЛЕ, например, В.Н. Телия [12, с. 40–41], Т.В. Матвеева [9, c. 112], другие не относят его к значению, называя значимостью, например, Л.М. Васильев [3, c. 5]. А Е.Р. Курилович считает, что «экспрессивные формы и стилистические варианты <...> можно было бы объединить общим термином стилистических в широком смысле слова» [6, c. 76]. Как известно, еще Ш. Балли, заложивший основы экспрессивной стилистики, ее предметом считал «экспрессивные факты языковой системы с точки зрения их эмоционального содержания, то есть выражение в речи явлений из области чувств и действие речевых фактов на чувства» [2, c. 33]. Следовательно, сохраняет актуальность вопрос об отграничении ЭЛЕ от их стилистической окрашенности.
Во-вторых, не существует единого понятийно-терминологического аппарата описания экспрессивного фонда языка. Как отмечает Г.Н. Скляревская, «в целом терминологическая система категории языковой оценки (ее работа посвящена эмотивной оценке. – Н. Л. ) еще не сформировалась, иерархически не выстроена, за каждым термином не закреплено одно и только одно значение и, напротив, за каждым языковым фактом – только один термин. Терминологическая полисемия и синонимия препятствуют всякий раз уточнять и определять выбранные им (исследователем. – Н. Л. ) термины» [11, c. 171].
В данной статье вносятся коррективы, дополнения, уточнения к нашему пониманию [7] этой категории с учетом некоторых обозначенных выше дискуссионных моментов. Целесообразно различать термины, которые обычно используются при описании «экспрессивных» объектов. Экспрессивность может иметь системный и речевой статус, по Ахмановой – быть ингерентной и адгерентной [1, c. 523], это общеизвестно. Однако существует и иное мнение: экспрессивность есть чисто психологическое (не лингвистическое) явление, а поэтому оно относится только к деятельности языка, то есть к речи (К. Вай-сгербер), проявляется в употреблении слова, «а употребление и значение слова связаны живыми нитями» [5, c. 171].
В нашей концепции посредством определения понятия «экспрессивный» и его производного «экспрессивность» квалифицируются системные единицы, их свойства и функции.
Экспрессивность – свойство лексической еденицы, а также единиц других уровней языка; экспрессивное ЛЗ (содержание, семантика) – системное значение лексической еде-ницы; экспрессивная лексическая единица, экспрессивное слово, экспрессивная номинация, экспрессив – лексема и лексико-семантический вариант (ЛСВ) лексемы; экспрессивная единица языка , экспрессив – единица любого уровня; экспрессивный лексический фонд (корпус) языка – часть лексического фонда, лексическая подсистема; экспрессивный фонд (корпус) языка – совокупность разноуровневых единиц, которые обладают свойством экспрессивности как элементы языковой системы; экспрессивная функция (функции), экспрессивный эффект (В.Н. Телия) – прагматическая функция (функции) ЭЛЕ и других экспрессивных единиц языка. Квазитермины экспрессивная окраска, окрашенность, оттенок, маркирован-ноть мы используем для обозначения «речевых наслоений», «приращений (обертонов) смысла», которые приобретают единицы языка в речи/тексте, не будучи экспрессивными в языке-системе. Следовательно, семантические основания экспрессивности являются органичными компонентами значения ЭЛЕ, а экспрессивная окраска относится к актуальному (речевому) смыслу языковых единиц, то есть связана с прагматикой.
Экспрессивная лексическая единица – это лексема как система ее ЛСВ, то есть по-лисемант, и отдельный ЛСВ лексемы; они обладают свойством экспрессивности в проти- вопоставлении другому свойству лексической еденицы – номинативности. Номинатив-ность – свойство лексической еденицы, связанное с обозначением и называнием предметов, соотносимое с классифицирующей деятельностью сознания (и, соответственно, денотатом и/или сигнификатом как ментальными структурами), то есть работой левого полушария головного мозга в когнитивно-номинативном (в аспекте порождения лексической еденицы) и когнитивно-коммуникативном (в аспекте функционирования лексической еденицы) процессах. Экспрессивность – свойство лексической еденицы, связанное с их способностью в образной или (редко) необразной «форме» репрезентировать субъективные аспекты восприятия человеком действительности, а именно представления говорящих о качественно-количественных проявлениях реалий (предметов и их признаков, признаков других признаков, а также действий, состояний, процессов), непосредственно переживаемые эмоции, чувства говорящих, субъективные мнения, оценки о предметах речи. Данное свойство лексической еденицы соотносимо с работой правого полушария головного мозга в когнитивно-номинативном и коммуникативном процессах. Экспрессивное слово, строго говоря, не соотносится с классом однородных предметов: в сознании носителей языка не существует класса дрязг, нерях, верзил, слюнтяев, дармоедов, дебоширов и т. п. ЭЛЕ не столько называет предмет, признак, действие, явление (хотя номинативность присуща и ЭЛЕ), сколько выражает субъективное «я» говорящего/пишущего, то есть человеческий фактор, поэтому экспрессивный фонд языка в целом антропоцентричен.
Следовательно, экспрессивность как свойство ЭЛЕ мы рассматриваем в оппозиции номинативности и, соответственно, эк-спрессив – в оппозиции номинативу , а экспрессивную функцию – в оппозиции номинативной функции.
Нередко в качестве синонимов терминам экспрессивный и экспрессивность употребляются номинации выразительный и выразительность. Однако последние, во-первых, не имеют статуса терминов, во-вторых, лишь частично заменяют первые два термина – в тех случаях, когда речь идет не о семантике экспрессивов, а об их функционировании в устной и письменной речи. Поэтому выразительность можно интерпретировать как коммуникативную (прагматическую) экспрессивность.
ЭЛЕ и их экспрессивные функции детерминированы их семантикой. Общим местом теории экспрессивности является признание коннотативной природы экспрессивности как языкового феномена. Но коннотация, а также количество выделяемых лингвистами коннотативных сем, порождающих «экспрессивный эффект», и их соотношение в ЛЗ слова интерпретируются по-разному, поэтому и основания экспрессивности получают различные толкования.
В освещаемой здесь концепции выделяются три семантических основания экспрессивности: в семантике ЭЛЕ в разных комбинациях, «сочетаниях» представлены интенсивность, эмотивность или эмотив-ная оценка и образность . Компоненты эмо-тивность и эмотивная оценка не пересекаются в границах одного и того же ЛЗ, данные семы относятся к разным значениям. Эти три основания выделяются почти во всех исследованиях экспрессивности, а термины эмотивный, эмотивность, эмотивная оценка, введенные В.И. Шаховским [14, c. 157] с целью разграничения эмоциональности как свойства субъекта эмоционально воспринимать окружающий мир, эмоционально реагировать на ситуации и эмотив-ности как свойства языковых единиц хорошо «встроились» в терминологическую систему, описывающую экспрессивность. С позиций когнитивной теории ЛЗ каждый из названных компонентов имеет когнитивную и психическую природу. Когнитивная природа языковых единиц обусловлена познавательной функцией языка, связанной с высшими психическими процессами, используемыми носителями языка для того, чтобы узнать, понять и объяснить окружающий нас мир, передать полученные знания от поколения к поколению. По словам В. Гумбольдта, «язык как бы обретает прозрачность и дает заглянуть во внутренний ход мысли говорящего» [4, c. 171]. Результаты этих процессов вербализуются языковыми средствами, а последние являются репрезентантами наших мыслей и чувств.
Интенсивность, эмотивность, эмотивную оценку мы относим к коннотативной части ЛЗ ЭЛЕ, противопоставляя ее денотативной (или денотативно-сигнификативной, в другой терминологии – дескриптивной) части ЛЗ, а образность рассматриваем в качестве самостоятельного, целостного, неделимого компонента, равно связанного как с коннотативным, так и с денотативно-сигнификативным содержанием ЭЛЕ.
В экспрессивном лексическом фонде русского языка ярко проявляется тенденция широкой синонимии, в которой реализуется богатый практический опыт носителей языка. Так, в разговорном дискурсе смысл ‘поступить недобросовестно, нечестно по отношению к кому-н., обидев его, оскорбив, причинив ему материальный ущерб’ репрезентируют номинативный глагол обмануть и целый ряд экспрессивных глаголов: обвести (ФЕ обвести вокруг пальца ) , надуть, обдуть, обдурить, одурачить, обжулить, околпачить, окрутить, облапошить, обмишу-лить/обмишурить, оболванить, объегорить, обстряпать (дельце), обтяпать (дело), провести диал . обýлгачить. Ср. также: отказаться (выполнить данное обещание, поручение и т. п.) – отбояриться, отбрыкаться, отвертеться, отговориться, отбрехаться, отгородиться, отделаться ; диал. ‘выполнить какую-л. работу плохо, кое-как, не прилагая особых усилий, испортить ее результат’: наколбасúть, надерьмýжить, накулем ё сть, нахомутля’ть, изнахратить ; о непослушном ребенке : н ё слух, враж о нок, пáкостник; попрошайка, побирýшка, поб о рник, подок о нник.
В образах ЭЛЕ отражаются национальнокультурные реалии, ментальность русского народа, они национально-культурно специфичны. Но это уже иная тема изучения экспрессивной лексики, связанная с когнитивными источниками образов ЭЛЕ и – шире – с лингвокультурологическим аспектом (см. об этом: [8]).
ЭЛЕ стилистически маркированы, данное свойство также детерминировано их семантикой. Но оно не входит в их ЛЗ, а является функциональным по своей сути. Разговорные дискурсы – преимущественная сфера употребления стилистически сниженных экс-прессивов.
Различные «сочетания» коннотативных сем, образности плюс стилистическая окраска создают «эффект выразительности» (Ш. Балли) в речевых актах. Выразительность обычно связывается с усилением впечатления от сказанного, лучшим донесением информации о внеязыковом факте, ситуации, воздействием на адресата. И здесь мы выходим в область прагматики, то есть функционирования ЭЛЕ, обусловленного внеязыковы-ми факторами: направленностью речевого акта на действительность, целеустановкой говорящего/пишущего, его интенциями, отношениями между говорящими в устной коммуникации, эмоционально-психическим состоянием говорящего, конкретной ситуацией общения. Все это относится к феномену внешнего контекста, обусловливающего актуализацию ЭЛЕ в устной и письменной речи, и связано с прагматическим аспектом изучения экспрессивной лексики разговорных дискурсов.
Список литературы Дискуссионные моменты интерпретации экспрессивности как категории лексикологии
- Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов/О. С. Ахманова. -М.: Сов. энцикл., 1966. -608 с.
- Балли, Ш. Французская стилистика: пер. с фр./Ш. Балли. -2-е изд., стер. -М.: УРСС, 2001. -394 с.
- Васильев, Л. М. «Стилистическое значение», экспрессивность и эмоциональность как категории семантики/Л. М. Васильев//Проблемы функционирования языка и специфика речевых разновидностей. -Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1985. -С. 3-9.
- Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию/В. Гумбольдт. -М.: Прогресс, 1984. -396 с.
- Звегинцев, В. А. Семасиология/В. А. Звегинцев. -М.: Изд-во МГУ, 1957. -324 с.
- Курилович, Е. Р. Заметки о значении слова/Е. Р. Курилович//Вопросы языкознания. -1955. -№ 3. -С. 73-81.
- Лукьянова, Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики/Н. А. Лукьянова. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1986. -230 с.
- Лукьянова, Н. А. Когнитивные источники образных слов/Н. А. Лукьянова//Сибирский филологический журнал. -2003. -№ 3-4. -С. 169-186.
- Матвеева, Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика/Т. В. Матвеева. -М.: Флинта: Наука, 2003. -431 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -4-е изд., доп. -М.: Азбуковник, 1997. -944 с.
- Скляревская, Г. Н. Категория оценки: основные понятия, термины, функции (на материале русского языка)/Г. Н. Скляревская//Оценка в современном русском языке: сб. ст./Studia Slavika Finlandensia. -Helsinki: Venдjдan ja itд-Euroopan instituutti, 1997. -Т. ХIV. -S. 165-184.
- Телия, В. Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц/В. Н. Телия//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности: [монография]/В. Н. Телия, Т. А. Графова, А. М. Шахнарович [и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. -М.: Наука, 1991. -С. 36-66.
- Телия, В. Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация/В. Н. Телия//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности: [монография]/В. Н. Телия, Т. А. Графова, А. М. Шахнарович [и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. -М.: Наука, 1991. -С. 8-35.
- Шаховский, В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка/В. И. Шаховский. -2-е изд. -Волгоград: Перемена, 2008. -208 с.
- Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций/В. И. Шаховский. -М.: Гнозис, 2008. -416 с.