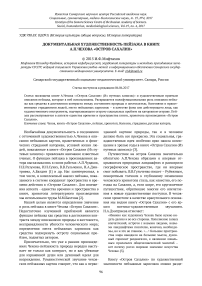Документальная художественность пейзажа в книге А. П. Чехова "Остров Сахалин"
Бесплатный доступ
Статья посвящена книге А.Чехова ««Остров Сахалин» (Из путевых записок)» и художественным приемам описания пейзажа, которые в ней использованы. Раскрывается полифункциональная роль описания пейзажа как средства в достижении контраста между состоянием природы и жестокостью, болезнями и нравственными страданиями людей, место пейзажных зарисовок - в качестве фона или действующего лица, как художественного инструмента, подчеркивающего остроту социальных проблем на каторжном острове. Пейзаж рассматривается в аспекте единства времени и пространства книги, хронотопа произведения «Остров Сахалин».
Чехов, книга "остров сахалин", пейзаж, хронотоп, болезни, страдания, русская каторга
Короткий адрес: https://sciup.org/148102536
IDR: 148102536 | УДК: 930.85:
Текст научной статьи Документальная художественность пейзажа в книге А. П. Чехова "Остров Сахалин"
Необычайная документальность в соединении с отточенной художественностью А.Чехова в описании пейзажных картин, нравственных и физических страданий каторжан, условий жизни людей, показанные в книге «Остров Сахалин (Из путевых записок)» привлекали внимание известных ученых. О функции пейзажа в произведениях автора высказывались в своих работах: А.П.Чудаков, Н.Е.Разумова, И.Н.Сухих, В.В.Гульченко, Н.А.Дми-триева, А.Балдин [1] и др. Нас заинтересовал, в том числе, и комплексный анализ пейзажа, показанного в системе координат пространства и времени действия в «Острове Сахалин». Для освещения аспекта - единства времени и пространства в книге, хронотопа литературного произведения мы использовали труды М.М.Бахтина [2].
Нашей целью является определение значение и роль пейзажа в книге Чехова «Остров Сахалин». Недостаточно изученной проблемой является функция пейзажа как средства в достижении контраста между описаниями природы и жестокости, несправедливости убогости человеческого мира; определения места пейзажных зарисовок как средства подчеркнуть остроту социальных проблем, поднятых автором.
Примечательно, что уже в ранних произведениях Чехова-пейзажиста природа нередко выступает не только как контраст, но и как убежище для израненной души или духовный идеал для возрождения. Гуманистической звучание чеховских пейзажных картин говорит, что как в перво- зданной картине природы, так и в человеке должно быть все прекрасно. Эта социальная, гражданственная идея особенно ярко нашла воплощение в зрелые годы в книге «Остров Сахалин (Из путевых записок)» [3].
Путешествие на остров Сахалин значительно обогатило А.П.Чехова образами о впервые открывшихся природных ландшафтах и расширило географическое пространство, где он впервые смог побывать. В.В.Гульченко пишет – Рубежным, поворотным толчком к глубинному изменению чеховского хронотопа стала, как известно, его поездка на Сахалин, а, если шире, его кругосветное путешествие, обратившее многие его впечатления в новые художественные поступки. В чеховском хронотопе в качестве краеугольного основания мы видим книгу «Остров Сахалин» с его ярким поэтико-художественным звучанием. Н.А.Дмитриева отмечает:
«Именно как художнику Чехову было нужно видеть далеко и во все стороны. Пополнение запаса впечатлений, встречи с новыми людьми, новыми ландшафтами писателю, конечно, необходимы, но и это не главное. <…> Большие пространства мира наводили на большие мысли, духовный горизонт раздвигался, к явлениям локальным прилагался общечеловеческий масштаб – вот почему росло мировое значение искусства Чехова» [5].
Книгу «Остров Сахалин» по художественной значимости пейзажных зарисовок можно разде- лить на две части: с I по XIII главы повествование изобилует описаниями природы и строится в соответствии с маршрутом и хронологией поездки Чехова, и главы с XIV по XXIII с более редкими картинами сахалинского пространства. Во второй части внимание автора значительно больше уделено социальным, медицинским и психологическим условиям жизни населения. Семантическая роль элементов пейзажа особенно ярко проявляется в первой части. В ней Сахалин предстает центром и основой того микрокосма, куда попадает автор.
Художественными приемами представления пейзажа в «Острове Сахалин» автор-повествователь показывает, что он описывает иное пространство, ранее неведомое ему и читателям. Действительно, Чехову впервые предстает некая непознанная грань Российской земли. Он одновременно и открывает перед нами новую землю, новые картины, но и показывает, что данное место – «как в аду», граница, «конец света», крайняя точка родной страны. Например, первое впечатление об открывшемся на горизонте острове Сахалин, уподобленный аду:
«Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. <…> Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них – горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. <…> И все в дыму, как в аду» [6].
Посредством акцентирования внимания читателя на географическом положении Сахалина как крайней точки российской земли, Чехов утверждает, что здесь и предельная острота унижения каторжника:
«…в это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти» [6, с.152].
Направление внимания читателя на окраинное географическое положение острова усиливает впечатление о безысходности страданий его каторжан: «Тут кончается Азия… <…> Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть» [6, с.45].
Автора волнует не только реальная картина границы двух больших стихий - суши и моря. Он пытается заглянуть за эту границу и представить невидимый за Тихим океаном, досягаемый только силой мысли американский континент: «…а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка» [6, с.211]. Примечательно, что А. Чехов описывает пейзажные картины и языком художественного слова, и языком науки, приводя географическое описание этой границы:
«Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура» [6, с.53].
Автор-рассказчик многократно обращается к Сахалину как обобщенному образу пространства, через которое проходит граница российской земли. Смысл жизни, смерть каторжан, их болезни и нравственные страдания – все эти нарративы неразрывно связаны с нахождением в приграничном пространстве Сахалина. Оно сжимается в узкую прибрежную полосу и дорогу:
«Каторжник здесь в продолжение многих лет без перерыва видит только рудник, дорогу до тюрьмы и море. Вся жизнь его как бы ушла в эту узкую береговую отмель между глинистым берегом и морем» [6, с.149].
Впервые столкнувшись с природой Дальнего Востока, в том числе, пейзажем Сахалина, Чехов неоднократно отмечает непохожесть и самобытность этой земли по сравнению с остальной Россией:
«…боже мой, как далека здешняя жизнь от России! <…> …у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе…» [6, с.42].
В книге используются и почти нейтральные, лирические описания природы со значением конечности земной жизни и видимого пространства:
«…надвигалась стена тумана совершенно белого, молочного цвета; походило на то, как будто с неба на землю опустился белый занавес» [6, с.114].
Художественные особенности стиля описания различных пейзажей в «Острове Сахалин» говорят об эмоционально-положительных чувствах автора по отношению к природе, которые контрастируют с его негативными настроением в связи предчувствием катастрофы, с рассказами о неустроенной жизни, о ненужности человека, о смерти, болезнях и страданиях на пропитанном злом каторжном острове. Например, вечером автора волнуют невеселые переживания:
«Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума» [6, с.50].
Наутро пейзаж снова радует писателя, в тоже время, он чувствует бесполезность человека для сахалинской природы: «Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. <^> Утро было яркое, блестящее...» [6, с.51]. Далее автор-повествователь, как будто, в мягкой, лиричной манере описывает сахалинский пейзаж, подводя нас к тревожным думам. Мы это связываем с мировоззренческой, философской позицией автора:
«По совершенно гладкому морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты, и это прекрасное, оригинальное зрелище развлекало нас на всем пути. Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был непокоен» [6, с.54].
Автор вновь погружает нас в идиллическую картину сахалинского пейзажа:
«Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные; припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор» [6, с.65].
В следующем отрывке реципиент понимает и чувствует контраст в отношении писателя к благостному пейзажу и услышанной негативной оценке Сахалина, но поданной с ноткой сомненья:
«…про Сахалин же говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров - самое ненастное место в России. Не знаю, насколько верно последнее; при мне было очень хорошее лето...» [6, с.112].
Через некоторое время природа вновь радует автора-путешественника: «Это место, помимо красоты положения, чрезвычайно богато красками...» [6, с.124].
Чехов отмечает печаль и суровость увиденного пейзажа как изначально-самобытную: «Правда, природа там печальна и сурова, но сурова она по-русски, здесь же она улыбается и грустит, должно быть, по-аински...» [6, с.208]. Сахалинская природа в сознании Чехова возбуждала живой интерес и завораживала ощущением скрытой за грозным ревом моря угрозой:
«…жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев» [6, с.211].
В первоначальном, черновом, варианте после описания красоты пролива: «Татарский берег красив, [смотрит ясно и] выглядит нелюдимо и тор жественно^», - следует контраст с критикой социального устройства государства. Она впервые прозвучала в книге как протест и желание очиститься от скверны российского общества: «Мы уже осквернили эти берега и эти воды насилием; тут провозили арестантов, звенели кандалы, шел смрад от солонины, из трюмов…». Гармоничная природа подсказывает выход из окружающей Чехова несправедливости. Разрешение противоречий он видит в переходе к некоему идеализированному миропорядку, в котором хочет жить уже сейчас, что мы находим в намерении выйти из прежнего пространства в открывшийся ему на Сахалине новый мир с неповторимыми картинами природного пейзажа:
«…у меня такое чувство, как будто я уже вышел из пределов земли и порвал навсегда с прошлым… <…> …такое чувство, как будто я [уже навсегда живу где-то на другой планете] вступаю в какой-то новый, спокойный и свободный мир». Именно каторжный Сахалин с первозданным пейзажем в идеализированных представлениях Чехова предстает чудесным местом нравственного очищения людей и островом для их дальнейшей счастливой жизни: «В будущем здесь, на этом берегу, будут жить [счастливые люди и -кто знает?] [лучше и счастливее, чем мы] в самом деле [спок<ойно> наслаждаясь] наслаждаться свободой и покоем. Кто знает?» [6, с.388].
Автору хочется в это верить, но он риторически вопрошает - кто знает?... К сожалению, эти замечательные рассуждения о природе и идеале общественного устройства автор не стал включать в окончательный вариант книги.
В чеховском описание пейзажа мы замечаем характерную статичность и бесконечность природы, монотонность пути и течения времени, что проявляется в меньшей динамичности явлений и единообразии пейзажных зарисовок по сравнению с ранним периодом творчества. В книге Сахалин предстает особым бесконечно-однообразным пространством с остановившимся временем, что усиливает ощущение безысходности, фатальности зла и его вечного существования на острове. Об аналогиях в показе чеховской тайги как бесконечного и однообразного объекта рассуждает Н.Е.Разумова:
«Тайга выступает воплощением природного, материального мира; ее грандиозный образ напоминает о повести Тургенева «Поездка в Полесье» (1857), где лес выступал в аналогичной символической роли» [7, с.176].
Описание дороги, даже огонь пожара и клубящийся дым выглядят застывшими и спокойными:
«…сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом... Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие…» [6, с.45].
Об огромных и безлюдных пространствах говорит следующая фраза:
«Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше...» [6, с.51].
Монотонность и неразличимость деталей пейзажа звучит в строках:
«…на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр…» [6, с.54].
Монотонным пейзажем со скудной растительностью Чехов подчеркивает неприветливость и возможную опасность данной местности:
«Но природа по пути поражает своею бедностью. Вверху на горах и холмах, окружающих Александровскую долину, по которой протекает Дуйка, обгорелые пни, или торчат, как иглы дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые злаки – остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. <…> Ни сосны, ни дуба, ни клена – одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной, болотистой почвы и сурового климата» [6, с.56–57].
Не только земля, но и небо, погода в течение длительного времени показаны монотонно, что усиливает безрадостное впечатление о жителях острова:
«Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь» [6, с.113].
Не только людям, но и деревья погружены монотонную жизнь, где в необозримом пространстве о них никто не узнает. Им приходится «…в длинные страшные ночи, качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть – и никто не слышит этих жалоб» [6, с.121–122].
В «Острове Сахалин» мы наблюдаем характерное отсутствие внутренней дифференцировки пейзажных зарисовок. При этом, какая-либо часть картины характерна и репрезентативна для восприятия всего пейзажа в данное время и в другие моменты путешествия. Это также отличительная особенность манеры художественного стиля книги в изображении природы по сравнению с ранними произведениями. Например:
«Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса – это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север» [6, с.45].
Репрезентативен для всей картины и следующий отрывок:
«…высокие крутые берега, которые видны на десятки верст по обе стороны, прозрачный туман на горах и дым от пожара…» [6, с.55].
По описанию одного участка реки можно представить картину вверх и вниз по течению:
«…на берега ее были намыты громадные кучи деревьев, обрушившихся в воду, низина во многих местах была покрыта старым лесом из пихты, лиственницы, ольхи и лесной ивы, и кругом стояло непроходимое топкое болото» [6, с.76].
Чехов подробно описывает участок долины, лес и горы в пределах видимости. Аналогичный пейзаж предполагается и за обозреваемым горизонтом:
«Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше; гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зеленою стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц, выше их опять лиственный лес, а вершины гор лысы или покрыты кустарником» [6, с.118].
Проезжая по дороге автор отмечает повторяющиеся по обе стороны участки однотипного леса: «По красно-бурой болотистой равнине там и сям тянутся полоски кривого хвойного леса…»
[6, с.126]. Пейзажные картины по сторонам дороги не отличимы друг от друга, ни одно существо не оживляет эту картину и не останавливает взгляд писателя-путешественника:
«Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы... а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи…» [6, с.211].
В «Острове Сахалин» Чехов-пейзажист продолжает активно использовать краткие, но емкие описания природы, отшлифованные еще в раннем периоде творчества. Они передают отношение автора к окружающей действительности и создают фон повествования: «День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде +18°» [6, с.45]. Эмоционально нейтральный минимализм в описании побережья видим в предложениях: «На берегу несколько домиков и церковь» [6, с.52] и «Пахло дождем» [6, с.121]. Надвигающаяся катастрофа, царство тьмы угадываются в коротких фразах: «И всё в дыму, как в аду», [6, с.54] «Проклятая земля» [6, с.59] и «Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна» [6, с.65]. Образ пустоши рисуют несколько слов:
«Возле ни одного деревца» [6, с.73]. Безмятежность пейзажа передается одной строкой: «Была тихая, теплая погода, и чувствовался праздник» [6, с.109].
Антон Чехов широко использовал свое естественно-научное образование, полученное на медицинском факультете МГУ, для усиления документальности описания пейзажа. Не случайно А.Балдин писал:
«Это удивительная книга, «Остров Сахалин», написанная очевидно «зряче», на границе литературного текста и научного обозрения…» [8, с.142–153].
Автор-повествователь на страницах книги приводит подробные ботанические и геологические описания картин природы даже с латинской терминологией:
«…декорацию пополняет еще одно великолеп ное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия: прямой ствол вышиною до десяти футов и толщиною в основании три дюйма, пурпуровокрасный в верхней части, держит на себе зонтик до одного фута в поперечнике; около этого главного зонта группируются 4–6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По-латыни это растение называется angelophyllum ursinum» [6, с.118].
Познания в ботанике угадываются в чеховском описании:
«Почва здесь – вершковый слой перегноя, а подпочва – галька, которая в жаркие дни нагревается так сильно, что сушит корни растений, а в дождливую пору не пропускает влаги, так как лежит на глине; от этого корни гниют. На такой почве, по-видимому, без вреда для себя могут уживаться только растения с крепкими, глубоко сидящими корнями, как, например, лопухи, а из культурных только корнеплоды, брюква и картофель…» [6, с.123].
Автор добавляет к научному описанию неожиданные метафоры «…гордо возвышаются растения из семейства зонтичных, похожие на канделябры…» [6, с.124]. Прочитанные перед путешествием на Сахалин научные книги позволили А.Чехову сделать такое описание:
«Пласты угля здесь, по описанию специалистов, сдавлены пластами песчаников, глинистых сланцев, сланцевых глин и глинистых песков, приподнятых, изогнутых, сдвинутых или сброшенных породами базальтовыми, диоритовыми и порфировыми, вышедшими во многих местах большими массами» [6, с.128].
Чехову как врачу удалось органично передать ощущение разрухи и смерти «анатомическим» описанием окон домов, которые «глядят на вас, как глазные впадины черепа» [6, с.41].
Писатель-путешественник для придания полной реалистичности произведению приводит подробные научные описания природы, даже скрытой за горизонтом, размышления, с долей художественного сравнения. Заметно, что сведения почерпнуты из специальной литературы:
«По своему географическому положению нижняя треть Сахалина соответствует Франции, и если бы не холодные течения… <...>. Холодные течения, идущие от северных островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон, причем восточному берегу, как более открытому течениям и холодным ветрам <...>; природа его безусловно суровая, и флора его носит настоящий полярный характер. Западный же берег много счастливее; здесь влияние холодного течения смягчается теплым японским течением, известным под названием Куро-Сиво; не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплее, и на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора…» [6, с.181–182].
Другой наработанный в юности прием – художественное сравнение пейзажа с одушевленными существами и наделением природы челове- ческими качествами:
«…каждое <дерево> из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится … качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, – и никто не слышит этих жалоб» [6, с.122]. В другом отрывке: «…<природа> точно хочет улыбнуться на прощанье…» [6, с.126].
Особенно часто пейзаж показывается как одушевленный предмет описания, приобретает собственные эмоции в изображении реки или моря:
«Река Дуйка, всегда убогая, грязная, с лысыми берегами, а теперь украшенная <…> была на этот раз красива, даже величественна, но и смешна, как кухаркина дочь, на которую для примерки надели барышнино платье» [6, с.64, 65].
У Чехова река может задремать: «…когда я видел ее, на ее совершенно гладкую поверхность ложились вечерние тени; она была тиха и, казалось, дремала» [6, с.109]. Описывая человеческую эмоциональность морских волн Чехов, тем самым, передает свое отношение к данному пейзажу: «…печально шумели волны» [6, с.121]. Морские волны живут самостоятельной жизнью, по неведомым законам, не обращая внимание на присутствие в их мире человека и совершенно не нуждаясь в нем: «…для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду» [6, с.211].
Каждая одушевляющая деталь делает описание пейзажа более ярким и образным. По возвращении из путешествия А.Чехов переполнен эмоциями. Это находит отражение в письме: «Право, столько видел я богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно» [9, с.127]. Как для России Сахалин является границей с другим миром, так и путешествие на каторжный остров с неповторимой природой стало для писателя рубежным этапом в эволюции чеховского мировоззрения. С присущей самоиро-нией он в следующем письме так описывает произошедшую в своем сознании метаморфозу:
«...До поездки «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел...» [9, т.4, с.147].
Яркость впечатлений Чехова от неповторимых пейзажей не уменьшилась даже по прошествии 12–14 лет, т.е. до конца жизни: «Это удивительнейшее озеро, увидишь, всю жизнь будешь помнить» [9, т.10, с.163], – пишет он в 1902 г. жене
О.Книппер-Чеховой о несбыточной из-за смертельной болезни, но волнующей мечте еще раз увидеть озеро Байкал. В 1904 г. в письме командированному во Владивосток Б.Лазаревскому пейзажи из давнего путешествия на Сахалин воскрешаются как будто увиденные накануне:
«Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, осталось роскошное...» [9, т.12, с.86].
Картины природы всплывают в сознании Чехова-пейзажиста живо, с порисованными деталями, с пространственно-временными координатами и особенностями погоды. Писатель сравнивает и возвышает остров до масштабов целого континента или страны, периодически сравнивая его то с Америкой, то с остальной Россией, Европой или с отдельными странами – Францией, Японией. Чехов, находясь на Сахалине, впервые выбирает его центром созданной в книге художественной картины своеобразного микрокосма. Окружающие континенты, страны, море, даже материковая Россия предстает довольно удаленной панорамой, расположенной вокруг острова. Намного реже автор смотрит на остров с точки зрения каторжан, тогда пространство резко сжимается в узкую прибрежную полосу.
Природа острова для Чехова, получившего университетское естественно-научное образование, предстает как уникальная лаборатория для описания природы: солнца, луны, облаков, ветра, рек, моря, флоры и фауны.
Мы разделяем общую оценку Н.Е.Разумовой, отметившей, что книга Чехова «по-очерковому нацелена на конкретный жизненный материал и связанные с ним актуальные вопросы» [7, с. 201, 202], при этом отношение автора, глубина погружения читателя в повествование и степень обобщения достигается активным использованием элементов пейзажа: дороги, леса, гор, полей, моря, рек, озер, облаков, построек. Дополнительную смысловую нагрузку основным топосам автор придает за счет создания пространственных связей между составными элементами пейзажа, объединенных хронологическим порядком изложения. По заключению М.М.Бахтина:
«В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории» [2, с.235].
Так же и в «Острове Сахалин» – в книге ощущается различная скорость течения времени, смена сезонов и органическое соединение с пейзажными картинами.
В мастерстве подачи картин природы заключен уникальный поэтический рецепт писателя и врача А.П.Чехова, который определил успех книги. Благодаря реалистичному и художественному описанию природы в координатах времени и пространства «Остров Сахалин» стал уникальным образцом чеховского хронотопа. Его новаторство часто сравнивают с эпическим хронотопом русской классической литературы 19 в. И.Н.Сухих в связи этим указывает, что он противоположен и строится на принципах «разомкну-тости, неограниченности мира вместо его замкнутости...» [10, с.136].
Таким образом, благодаря масштабному путешествию Чехов получил уникальные впечатления об острове Сахалин и его пейзажах. Особенностью знакомства с пейзажем стала динамика познания: она заключалась в постоянном движении и активном взаимодействии с природой. В книге рисуются бесконечные или замкнутые пространства, их можно преодолеть или раствориться в них. Перемена картин природы происходит в зависимости от времени суток и от сезона года, что является дополнительным инструментом авторского нарратива.
Внутренний мир Чехова-путешественника ди- намично взаимодействует с открывшимся пространством Сахалина, соединяется с его творческим мышлением и рисует то более художественную, то более научно-документальную картину природного пейзажа. В его созерцании и стремлении разгадать закономерности природных явлений автор, порой, наделяет некоторые из них человеческими качествами – они мыслят, радуются, грустят, жалуются, дремлют.
В книге особенно зримо чувствуется, что детали чеховского пейзаж не только создают общий эмоциональный фон, но и транслируют авторскую позицию к происходящему, иллюстрируют его отдельные мысли, действия и переживания персонажей, предчувствие и возможное развитие событий. Образным языком пейзажа, на контрасте красот природы и убогости человеческого существования на Сахалине Чехов показывает читателям этот остров в качестве обособленного царства зла, человеческих болей и унижений. Другой идейной линией автора-повествователя является поиск путей выхода общества из атмосферы несправедливости. Идеализированным средством для самоочищения от социальных недугов, с позиции Чехова, является первозданная природа Сахалина.
Мы отмечаем, что явления природы, пейзаж выходит на первый план сюжета и сам становится героем произведения, буквально оживая на страницах книги и вещая от имени автора.
-
1. Чудаков, А.П. Поэтика Чехова. М., Наука, 1971. 291 с; Разумова, Н.Е. Творчество А.П.Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государств. ун-т. 2001. 521 с; Сухих. И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л., Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1987. С. 136; Гульченко, В.В. Место «Острова Сахалина» в чеховском хронотопе // XVIII Чеховские чтения. Проблемы и перспективы сохранения чеховского наследия: материалы научно-практической конференции. 29–30 января 2015 года / сост. А.А.Жук, А.А.Степаненко. Южно-Сахалинск; М.; Изд-во Перо, 2015. С. 108–109; Дмитриева, Н.А. Послание Чехова. М., Прогресс-Традиция, 2007. С. 137–138; Балдин, А. Четыре Чехова // Октябрь. 2010. № 1. С. 142–153.
-
2. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // В кн. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г.Бочаров; текст подгот. Г.С.Бернштейн и Л.В.Дерюгина; примеч. С.С.Аверинцева и С.Г.Бочарова. М., Искусство, 1979. 424 с. (Из истории сов. эстетики и теории искусства). С. 235.
-
3. См.: Мифтахов, И.Ф. Современники А.П.Чехова об «Острове Сахалин» // Известия Самарского научного центра РАН ( Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки ). 2015. №1-4. С. 960–962.
-
4. Гульченко В.В. Место «Острова Сахалина» в чеховском хронотопе // XVIII Чеховские чтения. Проблемы и перспективы сохранения чеховского наследия: материалы научно-практической конференции. 29–30 января 2015 года / сост. А.А.Жук, А.А.Степаненко. Южно-Сахалинск; М., Изд-во Перо, 2015. С. 108–109.
-
5. Дмитриева, Н.А. Послание Чехова. М., Прогресс-Традиция, 2007. С. 137–138.
-
6. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. М., Наука, 1974–1982. Далее произведения А.П.Чехова цитируются по этому собранию сочинений с указанием тома и страницы. Особые случаи и примечания будут указаны отдельно. Т. 14/15., С. 54.
-
7. Разумова, Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государств. ун-т, 2001. С. 176.
-
8. Балдин, А. Четыре Чехова // Октябрь. 2010. № 1. С. 142–153.
-
9. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. М., Наука, 1974. Т. 4., С. 127. Далее письма А.П. Чехова цитируются по этому собранию сочинений с обозначением: «Письма» и указанием тома, страницы.
-
10. Сухих, И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л., Изд-во Ленинградск. ун-та, 1987. С. 136.
DOCUMENTARY ARTISTIC MERIT OF THE LANDSCAPE IN
«SAKHALIN ISLAND» BY ANTON CHEKHOV
Iskander F. Miftakhov, postgraduate student of the Chair of Russian, Foreign Literature and Methods of Teaching Literature (SSUSSE); senior specialist of SSMU Educational Method and Information Support Administration.
Список литературы Документальная художественность пейзажа в книге А. П. Чехова "Остров Сахалин"
- Чудаков, А.П. Поэтика Чехова. М., Наука, 1971. 291 с
- Разумова, Н.Е. Творчество А.П.Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государств. ун-т. 2001. 521 с
- Сухих. И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. С. 136
- Гульченко, В.В. Место «Острова Сахалина» в чеховском хронотопе//XVIII Чеховские чтения. Проблемы и перспективы сохранения чеховского наследия: материалы научно-практической конференции. 29-30 января 2015 года/сост. А.А.Жук, А.А.Степаненко. Южно-Сахалинск; М.; Изд-во Перо, 2015. С. 108-109
- Дмитриева, Н.А. Послание Чехова. М., Прогресс-Традиция, 2007. С. 137-138
- Балдин, А. Четыре Чехова//Октябрь. 2010. № 1. С. 142-153.
- Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике//В кн. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества/сост. С.Г.Бочаров; текст подгот. Г.С.Бернштейн и Л.В.Дерюгина; примеч. С.С.Аверинцева и С.Г.Бочарова. М., Искусство, 1979. 424 с. (Из истории сов. эстетики и теории искусства). С. 235.
- Мифтахов, И.Ф. Современники А.П.Чехова об «Острове Сахалин»//Известия Самарского научного центра РАН (Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки). 2015. №1-4. С. 960-962.
- Гульченко В.В. Место «Острова Сахалина» в чеховском хронотопе//XVIII Чеховские чтения. Проблемы и перспективы сохранения чеховского наследия: материалы научно-практической конференции. 29-30 января 2015 года/сост. А.А.Жук, А.А.Степаненко. Южно-Сахалинск; М., Изд-во Перо, 2015. С. 108-109.
- Дмитриева, Н.А. Послание Чехова. М., Прогресс-Традиция, 2007. С. 137-138.
- Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. М., Наука, 1974-1982.
- Разумова, Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государств. ун-т, 2001. С. 176.
- Балдин, А. Четыре Чехова//Октябрь. 2010. № 1. С. 142-153.
- Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. М., Наука, 1974. Т. 4., С. 127.
- Сухих, И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л., Изд-во Ленинградск. ун-та, 1987. С. 136.