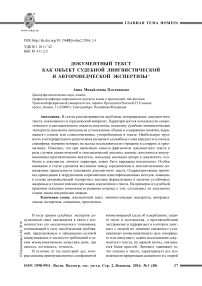Документный текст как объект судебной лингвистической и автороведческой экспертизы
Автор: Плотникова Анна Михайловна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы интерпретации документного текста, вовлеченного в юридический конфликт. Характеризуются возможности семантического и синтаксического анализа документа, поскольку судебная лингвистическая экспертиза документа основана на установлении объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосочетанием, употребленным в тексте. Наибольшую трудность в интерпретации и разночтения вызывают служебные слова (предлоги и союзы), специфика значения которых не всегда последовательно отражена в словарях и грамматиках. Показано, что при выявлении смысла фрагментов документного текста в ряде случаев семантический и синтаксический анализы должны дополняться коммуникативно-прагматическим анализом, поскольку интенция автора в документах, особенно в документах личного характера, может быть выражена имплицитно. Особое внимание в статье уделяется коллизиям между юридическим и лингвистическим по- ниманием правильности толкования документного текста. Охарактеризованы причины, приводящие к затруднениям в применении идентификационных методов, лежащих в основе автороведческой экспертизы: высокая формализация и наличие устойчивых жанровых и типологических признаков документного текста. На примерах из судебной практики показаны возможности решения вопроса о том, составлены ли документы одним лицом или разными лицами.
Документный текст, лингвистическая экспертиза, авторовеческая экспертиза, семантика, прагматика
Короткий адрес: https://sciup.org/14969946
IDR: 14969946 | УДК: 811.161.1’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.1.4
Текст научной статьи Документный текст как объект судебной лингвистической и автороведческой экспертизы
DOI:
В поле зрения судебных экспертов документный текст оказывается в связи с возможностью его неоднозначного толкования, возникающей в силу несоблюдения требований, предъявляемых к официально-деловой коммуникации, в частности требований к таким коммуникативным качествам речи, как ясность, логичность, точность.
В отличие от тех категорий дел, которые связаны преимущественно с конфликтной коммуникацией (дела об оскорблении, защите чести и достоинства, о противодействии экстремизму и терроризму) и в которых лингвист с опорой на значение сказанного устанавливает коммуникативную цель говорящего или пишущего, задача исследования документного текста, на первый взгляд, оказывается более простой. Лингвист оценивает то, что сказано в тексте, характеризует все возможные интерпретации сказанного и с опорой на лингвистическую методологию либо устанавливает единственно верный вариант толкования, либо фиксирует допустимость вариативных толкований. Однако и здесь эксперт сталкивается с трудностями, обусловленными взаимодействием правовой и лингвистической сфер, спецификой документного текста и методов анализа.
Причиной различий в интерпретации документного текста часто является неверное понимание адресантом или адресатом лексического значения слова, а следовательно, востребованным становится анализ семантики языковой единицы. Отметим, что экспертиза документного текста не ограничивается только лингвистической составляющей. Параллельно с лингвистической экспертизой иногда проводится правовое (юридическое) исследование документа, которое зачастую исходит из принципов прецедентности и предполагает обращение к судебной практике по аналогичным категориям дел, хотя этот критерий далеко не всегда применим. Например, обращение к судебной практике может стать иллюстрацией различий в способах толкования предлога до , используемого для характеристики временного предела. Рассматривая значение этого предлога, М. Эпштейн приводит следующий пример с комментарием: «“ До вторника вы меня не застанете ”. Дело в том, что предлог “до” не указывает, проходит ли временная граница по началу или по концу дня. Такова мистика этого русского предлога: он не различает начала и конца того временного промежутка, на который указывает. Поэтому можно истолковывать “ до вторника ” в любом благоприятном смысле: до начала вторника или до конца вторника. Ведь вторник, как и любой день, имеет начало и конец, поэтому “до вторника” может относиться и к полночи с понедельника на вторник, и к полночи со вторника на среду» [5].
В документах официально-делового стиля для обозначения сроков используются обычно более точные показатели, например, наречие включительно. В спорных случаях юристы ориентируются на сложившуюся практику или соответствующие документы, касающиеся той или иной категории дел, в которых могут быть прописаны временные пределы, в частности, таким способом: срок, определенный календарной датой, оканчивается в день, непосредственно предшествующий указанной в исполнительном документе дате.
При использовании предлога до в сочетаниях с единицами измерения также может возникнуть спорная ситуация. Например, в практике лингвистической экспертизы был случай неоднозначной интерпретации ограничительного предлога до в контексте Огнетушащая способность переносного устройства пожаротушения, работающего в стандартном режиме, должна быть ... до 20000 В . С лингвистических позиций возможна единственная интепретация приведенного фрагмента: сочетание количественного числительного с названием единицы измерения обозначает верхнюю границу пределов колебания какой-либо величины, которая включается в диапазон указанных величин.
Фактором, провоцирующим различия в толкованиях документов, является семантика параметрических слов, характеризующихся градуальностью значений. Например, перед экспертом ставится вопрос о толковании слова изменение в контексте Общая цена Помещения, подлежащая уплате, указанная в настоящем Договоре, является окончательной и подлежит изменению только в случае изменения фактической площади Помещения более чем на 10 % от указанной в настоящем Договоре, на основании обмеров БТИ . В высказывании устанавливается взаимозависимость между изменением цены и изменением площади, однако не конкретизируется направление изменения. В соответствии с лексическими и синтаксическими нормами русского языка высказывание нужно интерпретировать следующим образом: изменение цены возможно как в случае увеличения, так и в случае уменьшения площади более чем на 10 %, поэтому использование гиперонима изменение представляется в данном тексте вполне оправданным.
Причиной коммуникативной неудачи может стать синонимизация лексических единиц, обнаруженная в официально-деловых текстах. Например, перед экспертом ставится вопрос о разграничении значений слов комплектация и опция в связи с тем, что в тексте договора было написано о предоставлении «дополни- тельной комплектации» к приобретаемому автомобилю, а в рекламном буклете речь шла о «дополнительных опциях». Проведенный лингвистический анализ этих единиц показал, что в русском языке они не синонимичны. Слово опция, как свидетельствуют контексты из современной публицистики, используется для обозначения какой-либо технической возможности того или иного устройства, обычно не конкретного предмета, в отличие от слова комплектация, называющего совокупность предметов. Не являются абсолютными синонимами также слова штат и персонал, значения которых стали предметом судебного спора: если штат – это постоянный состав работников какого-либо предприятия, то персонал – лица, профессионально связанные с каким-то конкретным видом деятельности.
Помимо семантического анализа, применяемого для установления лексического значения слова, в судебной практике используется синтаксический анализ. Перед экспертом ставятся вопросы, связанные с правилами синтаксической связи, типами синтаксических отношений, возникающих между частями предложения. В большинстве случаев такой анализ предполагает характеристику формальной организации предложения.
Обратимся к анализу конкретного примера – пункта 14 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе», согласно которому допускается осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций .
Перед экспертом был поставлен вопрос: к какой ситуации относится уточнение для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муници- пальных библиотек, государственных научных организаций – только к оказанию услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям либо ко всем случаям закупки у единственного поставщика, предусмотренным пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ?
В результате синтаксического анализа высказывания установлено, что конструкция, начинающаяся с предлога для и находящаяся в постпозиции по отношению ко всему предложению, реализует значение цели и относится ко всему предложению, выполняя при этом детерминантную функцию. Напомним, что, согласно данным Русской грамматики, на основе соединения союза а с конкретизаторами образуются союзные соединения, которые оформляют значение факультативного присоединения [4, с. 622].
Данный вывод не совпал с правовым толкованием, согласно которому конструкция для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций относится только ко второй части, вводимой союзом а также . Подтверждая свой вывод, юристы обращаются к судебной практике, приводя примеры, которые нельзя признать аналогичными синтаксическими конструкциями. Так, Верховный суд Российской Федерации в Определении от 13.01.2003 по делу № 14-Г02-35, разрешая спор, связанный с толкованием фразы в третью очередь – объектов недвижимого имущества, а также сырья и материалов, станков, оборудования, других основных средств, предназначенных для непосредственного участия в производстве , резюмировал: «Из изложенной нормы следует, что объекты недвижимости вне зависимости от их участия в основном производстве относятся к третьей очереди <...>. При перечислении имущества третьей очереди законодатель использовал союз “а также”, распространяя тем самым непосредственное участие в производстве лишь на сырье, материалы, станки, оборудование, другие основные средства, но не на объекты недвижимости».
Рассматривая дело, касающееся интерпретации части 2 статьи 19 Закона № 314-ФЗ
( Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним ), Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 10.07.2009 по делу № А19-3065/09 указал: «Буквальное текстуальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод о том, что этот срок установлен законодателем применительно к обязанности застройщика опубликовать проектную декларацию в средствах массовой информации не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства. Использование законодателем союза а также не означает распространение установленного в отношении опубликования проектной декларации 14-дневного срока в том числе и на обязанность застройщика по представлению ее в контролирующий орган». В данном случае такое толкование может быть объяснено и грамматически: указание на срок не позднее чем за 14 дней соотносится с одним из сказуемых ( размещается ) и не является детерминантом.
Операциональная суть лингвистического анализа документного текста основывается на установлении значения слова и словосочетания или определении структуры синтаксической конструкции с выявлением зависимости ее частей.
Однако в ряде случаев, касающихся индивидуальных документов (заявлений, расписок, докладных записок), эксперт не может не принимать во внимание коммуникативную ситуацию, жанровые признаки документа и типы используемых в нем речевых актов. Например, для исследования было предоставлено заявление, в котором содержалась следующая формулировка: Настоящим заявляю о своем желании выхода из ООО N. Перед экспертом поставлен вопрос о том, синонимичны ли словосочетания заявляю о желании выхода и заявляю о выходе. Фраза заявляю о желании выхода реализует модальное значение желательности, заключающееся в волевой направленности субъекта к совершению действия, которое представлено как потенциальное; перформативная же формула заявляю о выходе эксплицирует действие, мыслимое как реальное, совершаемое в момент речи. Такие структурные и прагматические отличия не позволяют считать данные выражения синонимичными. Приведенный пример свидетельствует о важности изучения проблемы модальных значений в тексте документа. Практика лингвистической экспертизы подтверждает и необходимость выработать общие для экспертов подходы к интерпретации модальной направленности документа. Так, эксплицитно выраженная предписывающая функция резолютивной части может иметь разные модальные оттенки: деонтическая модальность обязательства, требования и запрета может сочетаться с модальным значением просьбы, разрешения. В судебной практике возникала потребность квалификации резолюции, вводимой конструкцией Прошу рассмотреть..., как приказа или пожелания. Решение данного вопроса приводило экспертов к разным выводам, поскольку одни из них ориентировались на семантику глагола и выражаемые конструкцией модальные значения, а другие учитывали рамочные требования, предъявляемые к жанру резолюции.
Высокий уровень унификации документного текста предполагает, что в ходе работы специалист или эксперт относит исследуемый текст к той или иной жанровой форме, выявляет языковые особенности, свойственные видовому классу документов, и рассматривает те языковые черты, которые не определяются аналогами и характеризуют только исследуемый им документ. Следовательно, в основе проведения экспертизы документного текста лежит система приемов сопоставления, что согласуется с выделенным М.В. Косовой признаком системности документного текста, предполагающим «его обязательную связанность с другими документными текстами, включенными в определенную группу (систему) коммуникации» [2, с. 8].
В отдельных случаях сопоставление документов для установления их тождества или различий становится целью проведения лингвистической экспертизы. Для решения задач автороведческой судебной экспертизы, когда перед экспертом ставится вопрос о том, составлены ли документы одним лицом или разными лицами, осуществляется специальное идентификационное исследование, например, в соответствии с методикой, разработанной С.М. Вулом [1].
Очевидно, что официально-деловой текст не в такой степени отражает идиостиль автора, как, например, публицистический или художественный, в силу его ориентации на стандарт, шаблон, устойчивые лексические и синтаксические клише, закрепленную композицию многих жанров документной коммуникации. Тем не менее специалисты в области документной лингвистики полагают возможным говорить о комплексной документной модели личности: «Комплексный характер этой модели предполагает исследование лингвистических сторон документов, состав таких документов и особенности их взаимосвязи. На основе этих документов может быть построена часть тезауруса личности , являющегося коммуникативно-документной моделью личности» [3, с. 39].
Материалом автороведческой экспертизы становились тексты судебных решений, договоров и актов приемки работ, индивидуально-авторские признаки которых обнаруживаются в выборе определенных синтаксических способов представления информации и отборе лексических средств. При анализе этих документов особое внимание также уделяется их орфографическому и пунктуационному оформлению.
Документы личного характера, такие как заявления и ходатайства, характеризуются большей информативностью в плане авторства. Например, сопоставление текстов двух заявлений позволяет заметить однотипность в выборе лексических средств, использование которых связано с нарушением норм лексической сочетаемости (ср.: ребенок остался без дома, прописки и всех вытекающих из этого проблем и ребенок не имеет прописки и всех вытекающих из этого проблем ). Яркими идентификационными признаками документного текста становятся вкрапления иностилевых элементов, разговорный
«субстрат» (например, слова липовый, подставленный , использованные для характеристики фальсифицированных справок). Элементы высокого стиля речи, направленные на создание возвышенной тональности текста, также служат ярким идентификационным показателем авторства (например, конструкции, оформленные как приложения: у него, государева служащего ; вы, ученые мужи ).
Трудности в автороведческом исследовании частных документов обусловлены незначительным объемом текстов, ограничивающим возможности применения статистических методов. Именно поэтому особое внимание при рассмотрении таких текстов уделяется не только характеристике языковых средств, но и композиционному и графическому оформлению текста (написанию даты, времени, препозитивному или постпозитивному расположению фамилии относительно имени и отчества, использованию аббревиатур, написанию марок автомобилей, например, таким устойчивым написаниям, как «Нива-Шевроле», «Ниссан-Альмера» ). Индивидуализирующей характеристикой дискурсивного мышления автора документного текста является композиционное построение, особенности логических и текстовых связей между сверхфразовыми единствами, правила рубрикации, выбор заголовков и подзаголовков. Фатичес-кая составляющая документных текстов, в частности специфика обращений и заключительных фраз, также может стать идиости-левой чертой документного текста.
Практика показывает, что эксперт не всегда приходит к категорическому выводу, так как выявленная в результате анализа совокупность идентификационных признаков может быть обусловлена сложившейся в организации практикой составления документов, носить не индивидуальный, а групповой, коллективный, свойственный определенному профессиональному сообществу, характер. Деловая переписка и личные документы (заявления, обращения, жалобы) обладают свойствами, связанными с эмоциональной стороной коммуникации, а следовательно, менее формализуемыми, что дает эксперту возможность обнаруживать большее количество индивидуально-авторских признаков. Если в результате проведенного исследования выявляется совокупность идентификационных признаков, близкая к индивидуальной, но все же недостаточная для того, чтобы прийти к категорическому выводу об авторстве текста, то эксперт делает вероятный вывод.
Таким образом, документный текст, становящийся объектом судебной лингвистической и автороведческой экспертизы, находится на пересечении правовой и лингвистической сфер. Значимость информационной составляющей в жизни современного общества, расширение состава документных текстов определяют необходимость обобщения экспертной практики, связанной с анализом документной коммуникации.
Список литературы Документный текст как объект судебной лингвистической и автороведческой экспертизы
- Вул, С. М. Судебно-автороведческая идентификационная экспертиза. Методические основы/С. М. Вул. -Харьков: ХНИИСЭ, 2007. -130 с.
- Косова, М. В. Системность как свойство документного текста/М. В. Косова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2012. -№ 1 (15). -С. 7-11. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2012.1.1
- Кушнерук, С. П. Документная лингвистика/С. П. Кушнерук. -М.: Флинта-Наука, 2011. -256 с.
- Русская грамматика: в 2 т./под ред. Н. Ю. Шведовой. -М.: Наука, 1980. -Т. 2. -710 с.
- Эпштейн, М. Критика предлога «до»/М. Эпштейн. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://subscribe.ru/archive/linguistics.lexicon/200906/29070544.html (дата обращения: 20.01.2016). -Загл. с экрана.