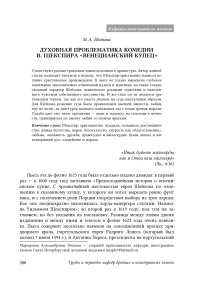Духовная проблематика комедии В. Шекспира «Венецианский купец»
Автор: М.А. Иванова
Журнал: Труды и переводы @proceedings-and-translations
Рубрика: Кафедра иностранных языков
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Существуют разные трактовки замысла великого драматурга. Автор данной статьи подводит читателя к выводу, что Шекспир-христианин написал истинно христианское произведение. В пьесе не только выражено глубокое понимание многовековых отношений иудеев и христиан, но также создан сложный характер Шейлока, охваченного разными страстями и наделенного чувством собственного достоинства. И все-таки он не является трагическим героем. так как его участь решена на суде наилучшим образом. Для Шейлока решение суда было проявлением высшей милости, любви, ему не мстят, не дают урок высшего понимания зла с точки зрения морали. Судьба дает ему залог прощения — шанс и надежду на спасение в вечности, примириться по закону любви со своими врагами.
Шекспир, христианство. иудаизм, гуманизм, ростовщичество, жажда богатства, порок, богохульство, хитрость как «благословение», любовь, ненависть, дружба, правосудие и милосердие, буква закона и животворящий дух, злодейство и мораль
Короткий адрес: https://sciup.org/140290814
IDR: 140290814
Текст научной статьи Духовная проблематика комедии В. Шекспира «Венецианский купец»
престол, жившего в Лондоне, — обвиненных в попытке отравить королеву елизавету. самый яркий из этих намеков содержится в сцене IV, 1: «твой гнусный дух жил в волке, повешенном за то, что грыз людей (по-латыни волк — 1upus, откуда происходит испано-португальская фамилия Лопес), с другой стороны, в двух письмах к роберту сесилю, лорду Берли, канцлеру елизаветы, от 27 октября и 10 ноября 1596 года френсис девисон насмешливо называет общего их врага Эссекса «святым Гоббо», что предполагает знакомство с «венецианским купцом», вероятно, незадолго перед тем представленным. Эти обстоятельства, а также значительная зрелость языка и версификации комедии делают наиболее вероятным возникновение ее ранней осенью 1596 года.
историю о жестоком заимодавце, пытавшемся вырезать, согласно условиям векселя, фунт мяса у неисправного должника, в соединении с необычным сватовством юноши, ради которого этот купец занял деньги, рассказывается в целом ряде средневековых произведений. Прямым источником послужила Шекспиру новелла (день IV, новелла 1) из сборника «овечья голова» джованни фьорентино, составленного около 1378 года, хотя напечатанного впервые лишь в 1558 году. именно из всех дошедших до нас версий сказания только в этой содержится название Бельмонте и мотив кольца, отданного в награду искусному адвокату. хотя сборник джованни фьорентино был переведен на английский язык только в XVIII веке, вполне допустимо, что уже во времена Шекспира существовал более старый перевод его, который он мог прочесть в рукописи.
Шекспир кое-что изменил в фабуле и довольно многое добавил от себя. Прежде всего он заменил мотив сонного напитка мотивом трех ларцов, который он заимствовал из совершенно другой истории, рассказанной в латинском сборнике новелл «римские деяния», возникшем в XIII веке и изданном в английском переводе в 1577 году. но скорее можно говорить о влиянии на Шекспира пьесы Марло «Мальтийский еврей» (1588), откуда он взял краски для обрисовки характера Шейлока и мотив любви дочери жестокого еврея к христианину (джессика-Лоренцо), не считая нескольких прямо заимствованных выражений.
По мнению а. а. смирнова, исследователя и переводчика Шекспира, своеобразие комедии «венецианский купец» заключается прежде всего в «особенном полусказочном-полуновеллистическом тоне, который ее пронизывает. Мало можно найти комедий Шекспира, где неправдоподобие и подчеркнутая условность положений, характеров, всего сюжета были бы так заметны! несостоятельность аргументов Порции-адвоката давно уже была отмечена юристами. не нужно быть особенно ученым законоведом, чтобы признать, что в любую эпоху и в любой стране закон не мог не разрешать заимодавцу взять меньше, чем то, на что он, согласно договору, имел право, и что кровь должна считаться частью тела, поскольку она неотделима от него, подобно тому как вместе с яблоком покупается и его кожура, а вместе с комнатой сдается и содержащийся в ней или притекающий в нее воздух. невероятно также, чтобы наивная загадка с тремя ларцами не была разгадана давно уже до Бассанио одним из предшествовавших ему женихов Порции или чтобы Порция не нашла способа намекнуть полюбившемуся ей Бассанио, на какой из ларцов ему следует указать. Почему антонио с первого появления его в пьесе все время томит какая-то непонятная грусть? Почему друзья антонио, так ему преданные (см. сцену суда), не пришли ему заблаговременно на помощь, одолжив необходимую сумму? как мог Бассанио забыть о сроке векселя, подписанного лучшим его другом антонио на таких страшных условиях, чтобы достать для него, Бассанио, деньги, составившие счастье всей его жизни? не приводя других примеров такого рода, отметим лишь, что все эти условности и натяжки придают пьесе, несмотря на чувственный оттенок ее и материальную яркость и пластичность образов, какой-то фантастический, иллюзорный оттенок, делающий ее слегка похожей на типичные пьесы-сказки Шекспира, как «сон в летнюю ночь» или «Буря». не без основания поэтому в своей постановке «венецианского купца» (к началу XX в.) немецкий режиссер Макс рейнгардт трактовал его как мимолетную интригу, легкую игру мыслей на фоне происходящего в венеции карнавала (см. сцену II, 4).
другой особенностью, также придающей пьесе большое своеобразие, является богатство ее идейного содержания и многогранность, доходящая почти до противоречивости, ее ведущих характеров. две темы, как будто бы не имеющие между собой ничего общего, выделяющиеся среди множества мыслей и тенденций комедии, это — тема отношения человека к имуществу, собственности, и тема дружбы как одного из главных устоев светлой, гармонической жизни — именно дружбы, соединяющей благородные натуры независимо от их пола, а не любви между мужчиной и женщиной, которой в пьесе, собственно говоря, и нет, ибо чувство, соединяющее Бассанио и Порцию или Лоренцо и джессику, менее всего можно назвать страстью: это просто склонность, влечение, имеющее целью наслаждение и счастливую дружную жизнь.
Первая тема выразительнее всего представлена сюжетной линией Шейлока и антонио. Мы не находим в ней ни малейшего намека на презрение к земным благам, на пренебрежение к богатству. антонио при всей его щедрости производит торговые операции, относясь к ним как к делу естественному и вполне благородному. Бассанио откровенно стремится к женитьбе на богатой наследнице. да и Порция, умелая и разумная хозяйка, отнюдь не равнодушна к своему достоянию. джессика, убегая из отцовского дома с Лоренцо, не забывает захватить с собой фамильные драгоценности. но для всех них деньги — лишь средство, обеспечивающее им светлую и привольную жизнь, а не самоцель, как для Шейлока, влюбленного в деньги, одержимого жаждой накопления и способного пойти на все ради преумножения своего капитала» [7].
вторая тема, как отметил шекспировед а. а. смирнов, это тема дружбы. культ дружбы, столь типичный для культуры и литературы возрождения, рассматривается а. а. смирновым как естественный, закономерный ответ гуманистов на безудержную и беспощадную погоню за наживой, все более охватывающую активные элементы общества в век зарождения первоначального капиталистического накопления. «Лозунгу «человек человеку — волк» гуманизм противопоставил лозунг человечности, милосердия, дружбы. как дополнение и корректив ко все более утверждающейся в национальных монархиях XVI века идее «легальности», железной и бездушной, не признающей никаких исключений «законности», выдвигается доктрина милосердия («милости», к которой призывает в сцене суда адвокат-Порция) как необходимого корректива, без которого нет в жизни человека красоты и радости, без которого, — как в случае антонио — Шейлок, — по выражению юристов, summumius (высшее право) становится summainiuria (высшею несправедливостью). одной из форм этого светлого альтруизма, украшающего и обогащающего человеческую жизнь, и является идея дружбы, занимающая также огромное место в творчестве Шекспира (его сонеты, дружба валентина и Протея в «двух веронцах», где дружба выдерживает состязание с любовью; дружба Гамлета с Горацио, дружба селии с розалиндой в «как вам это понравится» или ромео с Меркуцио). такова же дружба Бассанио и антонио, который готов отдать своему молодому другу все, что ему принадлежит, и даже то, чего у него нет. и эта тема дружбы в данной комедии глубоко связана с мечтой о более прекрасной жизни, в которой деньги должны служить человеку, не делая его рабом. вот в чем заключается связь двух тем, образующая сложное идейное единство этой чудеснейшей пьесы» [7]. скорее всего автор считает, что милость (милосердие) «выдвигается» гуманизмом как лозунг и доктрина впервые, либо он, как советский человек, игнорирует тот факт, что о милости известно еще с ветхозаветных времен и что уже тогда законность неоднократно была побеждена другим, высшим законом — любовью, не говоря уже о том, что сам Господь, Любовь и истина воплощенная, заключая с новым человечеством новый договор, благовествует о том, что «блаженны милостивые». с тех пор заповедями блаженства дышало новозаветное человечество уже не одну сотню лет. они никогда не были секретом, и их никто не сможет отменить.
итак, два мира противопоставлены здесь друг другу. один — мир радости, красоты, великодушия, дружбы; его составляют антонио с группой его друзей, Порция, нерисса, служанка Порции, в известной мере джессика, дочь еврея Шейлока. другой — мир злобы; его составляют Шейлок, тубал и, вероятно, их присные, которые не показаны в пьесе, но ощущаются как ее фон. Между двумя группами обнаруживается явный конфликт. трудно сказать, которая из двух сторон начинает нападение: обе они одинаково, еще до начала действия, не терпят друг друга, проявляя разное мировосприятие. разница между этими двумя душевными складами очень тонко обозначена Шекспиром одним поэтическим образом. в пятом акте, этом своеобразном музыкальном финале пьесы, говоря о «небесной музыке», о «гармонии небесных сфер», которая в эту дивную ночь слышится ему и его возлюбленной, Лоренцо отмечает свойство музыки очаровывать и смягчать человеческие сердца. он прибавляет:
«Тот, у кого нет музыки в душе, Кого не тронут сладкие созвучья, Способен на грабеж, измену, хитрость; Темны, как ночь, души его движенья И чувства все угрюмы, как Эреб».
а. а. смирнов пишет: «Многие западные критики пытаются изобразить столкновение между антонио и Шейлоком как противопоставление идеалов христиан-европейцев идеалам еврейства. По их мнению, Шекспир хотел разоблачить в «венецианском купце» порочность евреев и написал, таким образом, антисемитскую пьесу. Это, конечно, есть грубейшее искажение замысла пьесы. в целом ряде своих пьес Шекспир проводит идею равенства людей всех рас, наций, вероисповеданий, всех общественных положений. но почему же в таком случае он сделал Шей-лока евреем? Прежде всего, эту черту Шекспир придумал не сам, а заимствовал из итальянской новеллы, послужившей ему источником. он воспроизвел ее потому, что она соответствовала действительности. в XVI веке евреи, жившие в разных странах западной европы, не имея доступа к очень многим, и притом наиболее выгодным и почетным профессиям, усиленно занимались торговлей и ростовщичеством».
стремясь проникнуть глубже в подлинные намерения Шекспира, исследователь особо заостряет внимание на социальных условиях, на влиянии окружающей среды, в которой одни могут прожить только занимаясь ростовщичеством, а другие, имея всего в достатке и изобилии, видят свое счастье в обладании золотом, властью денег. У всех пороки, но как они возникают в человеке в данной социальной среде — это прежде всего важно а. а. смирнову. По его мнению Шекспир, как истинный представитель эпохи гуманизма, — сторонник человечности, справедливости и морального равенства всех людей. конечно, спорить с этим нет оснований. но возникает важнейший вопрос — а каковы же духовные причины, так связанные с вопросами социальными? есть свидетельства в пользу того, что Шекспир исповедовал христианство, был не протестантом, а католиком, в то время, когда англия уже была протестантской державой [7]. если Шекспир действительно не поддерживал церковную реформу и оставался убежденным католиком, значит, он мог рисковать своим жизненным благополучием, ибо противостоял политической силе. Поскольку гениальный художник Шекспир был человеком верующим, христианином-католиком, значит, он мог видеть причины вещей, человеческих отношений и т. д. гораздо глубже духовно, нежели даже самый замечательный неверующий гуманист любого времени, ратующий за прекраснодушную справедливость и равенство всех людей. нельзя забывать, что англия в эпоху королевы елизаветы оставалась страной христианской. с конца XIII века до времен кромвеля (середина XVII в.) верующие евреи по указу Эдуарда II были лишены права жительства в англии, и получили они это право только через 40 лет после смерти Шекспира (годы жизни Шекспира: 1564–1616) таким образом, к коренному населению страны принадлежали только крещеные евреи. евреи, встречавшиеся во времена королевы елизаветы в Лондоне, — по большей части иностранные подданные, вроде упомянутого выше врача Лопеса, — были редкими исключениями. есть ссылки на то, что за все указанные три с половиной столетия в англии отношение к еврейскому племени было неблагосклонным и среди населения ходило немало рассказов, компрометирующих евреев. особенно распространены они были в XVI веке, когда усилилась нелюбовь ко всему иностранному, насмешки над ним и т. п. Эти настроения проявились и в драме того времени, в частности и у Шекспира, но у него в шутливой и весьма безобидной форме (см., например, подтрунивание над слабостями представителей разных национальностей в «комедии ошибок» или выпады против французских и итальянских мод в «ромео и джульетте»). но особенно остры были во времена Шекспира «нападки на евреев». Госсон в своей «Школе обманов» (1579) упоминает какую-то пьесу о еврее ростовщике, шедшую в одном из лондонских театров. Модный романист эпохи Энтони Мендей обработал в 1580 году в виде романа историю о жестоком ростовщике и похищении его дочери. существовала баллада (неизвестно, возникла ли она до пьесы Шекспира, или после нее) о еврее Герунтии и бессердечных условиях полученного им векселя, а в своем «руководстве красноречия» (1596) александр сильвен посвящает одну из глав истории еврея, требовавшего от одного христианина в уплату долга фунт мяса. известен, наконец, успех, каким пользовалась упомянутая уже выше, возникшая лет за десять до «венецианского купца», трагедия Марло «Мальтийский еврей», где выводится богатый еврейский банкир, который совершает ужасающие предательства и жестокости вплоть до отравления родной дочери, лишь бы отомстить христианам, посягающим на его деньги. джордано Бруно, побывавший в англии в 1584 году, рассказывал потом, что в Лондоне ни один еврей, проходя по улице, не был гарантирован от худших оскорблений и издевательств. редкими исключениями были такие проявления благожелательности, как анонимная пьеса (изд. в 1584 г.) «три лондонские дамы», где был выведен поражающий своим душевным благородством еврей.
современный зритель на одно мгновение забывает после этого монолога весь ход пьесы, характер Шейлока, его жестокость и весь проникается сочувствием к нему как к человеку, к его угнетенному человеческому достоинству. особенно трудно представить себе бессердечное, немилосердное, я сказала бы даже циничное отношение к Шейлоку со стороны зрителя-христианина, действительно христианина. как показывают некоторые специальные исследования, большинство драматургов хVI — начала хVII веков изображали евреев с религиозной ненавистью: еврей был для них чужестранцем, чернокнижником, губителем христиан, подручным черта и т. д. такого рода контекст и продиктованный им характер зрительского восприятия мог сказаться на образе шекспировского Шейлока. Преимущественно принято считать, что по замыслу Шекспира Шейлок — комический злодей. отсюда существовавшая в англии на протяжении полутора столетий традиция исполнения роли Шейлока комедийными актерами, игравшими его в ярко-рыжем парике с ужимками сценического клоуна. «он был с рыжей бородой, лицом похожий на ведьму, на нем еврейская одежда, пригодная для любой погоды, подбородок у него был лицом кверху, а нос — крючком книзу, и кончики их сходились», писал о Шей-локе актер томас джордан в 1664 году. отмеченная традиция истолкования образа Шейлока продержалась на сцене до середины хIII века, когда актер Ч. Маклин впервые перевел образ Шейлока в трагический регистр. как трагического героя, «вулканически великолепного в своем национальном фанатизме и в бешеной силе страсти», играл Шейлока романтический трагик Э. кин. в дальнейшем эту тенденцию в истолковании образа Шейлока продолжили Г. ирвин и Л. оливье.
об отношении публики к Шейлоку пишет Георг Брандес (1842–1927), датский литературовед, выходец из еврейской семьи. Брандес никогда не был безоговорочно признан в дании, и его взгляды все еще вызывают либо энтузиазм, либо негодование. в одной из своих последних работ — «сказание об иисусе» (1925) Брандес пытается опровергнуть исторические основы христианства. в конце хIх века он был избран почетным членом общества любителей российской словесности. Против русского царизма с его «погромной политикой» Брандес направил книгу, в царской россии не допущенную. Был защитником советской россии после войны 1914-1918 гг. в работе «Шекспир. Жизнь и произведения» Брандес пишет: «однако для современного читателя и зрителя центральной фигурой пьесы является, конечно, Шейлок, хотя он в то время играл, без сомнения, роль комической персоны и не считался главным героем, тем более, что он ведь покидает сцену до окончания пьесы. Более гуманные поколения усмотрели в Шейлоке страдающего героя, нечто вроде козла отпущения или жертву. но в то время свойства его характера: жадность, ростовщические наклонности, наконец, его неизменное желание вырыть другому яму, в которую сам попадает, — представляли чисто комические черты. Шейлок не внушал зрителям даже страха за жизнь антонио, потому что развязка была заранее всем известна. когда он спешил на пир Бассанио со словами:
...Я все-таки пойду
И буду есть из ненависти только -
Пусть платится мой христианин-мот! – то он становился мишенью всеобщих насмешек; или, например, в сцене с тубалом, когда он колеблется между радостью, вызванной банкротством антонио, и отчаянием, вызванным бегством дочери, похитившей бриллианты. когда он восклицал: «я хотел бы, чтобы моя дочь лежала мертвая у моих ног с драгоценными каменьями в ушах!» — он становился прямо отвратительным. в качестве еврея он был вообще презренным существом. он принадлежал к тому народу, который распял христа, и его ненавидели кроме того как ростовщика. впрочем, английская театральная публика знала евреев только по книгам и театральным представлениям, так же как, например, норвежская еще в первой половине XIX века. в период с 1290 по 1660 год евреи были окончательно изгнаны из англии. никто не знал ни их добродетелей, ни их пороков, поэтому всякий предрассудок относительно их мог беспрепятственно зарождаться и крепнуть.
разделял ли Шекспир это религиозное предубеждение, подобно тому как он питал национальный предрассудок против орлеанской девы, если только сцена в «Генрихе VI», где она выведена в виде ведьмы, принадлежит ему? во всяком случае, только в незначительной степени. но если бы он выказал яркую симпатию к Шейлоку, то, с одной стороны, вмешалась бы цензура, а с другой стороны, публика бы не поняла и отвернулась бы от него. если Шейлок подвергается в конце концов каре, то это обстоятельство соответствовало как нельзя лучше духу времени. в наказание за свою упрямую мстительность он теряет сначала половину той суммы, которую ссудил антонио, потом половину своего капитала и вынужден, наконец, подобно «мальтийскому жиду» Марло, принять христианство. Этот последний факт возмущает современного читателя. но уважение к личным убеждениям не существовало в эпоху Шекспира. ведь было еще так близко время, когда евреям предоставляли выбор между распятием и костром. в 1349 г. пятьсот евреев избрали в страсбурге второй исход. странно также то обстоятельство, что в то время, когда на английской сцене мальтийский жид отравлял свою дочь, а венецианский еврей точил нож для казни над своим должником, в испании и Португалии тысячи героически настроенных евреев, оставшиеся верными иудейской религии после изгнания 300.000 соплеменников, предпочитали измене иудейству пытки, казни и костры инквизиции.
никто другой, как великодушный антонио, предлагает крестить Шейлока. он имеет при этом в виду его личное благо. крещение откроет ему после смерти путь к небесам. к тому же христиане, лишившие Шей-лока посредством детских софизмов всего его имущества, заставившие его отречься от своего Бога, могут гордиться тем, что являются выразителями христианской любви, тогда как он стоит на почве еврейского культа формального исполнения закона.
Джессика. Да, это действительно какая-то незаконнорожденная надежда. Но в этом случае на меня упадут грехи моей матери.
Ланселот. Это точно; ну, так значит, мне следует бояться, что вы пропадете и по папеньке, и по маменьке. Избегая Сциллу, т. е. вашего батюшку, я попадаю в Харибду — вашу матушку. Вот и выходит, что вы пропали и с той, и с другой стороны.
Джессика. Меня спасет мой муж: он сделал меня христианкой.
Ланселот. За это он достоин еще большего порицания. Нас и без того было много христиан на свете — как раз столько, сколько нужно, чтобы иметь возмож ность мирно жить вместе.
Это обращение в католическую веру возвысит цену на свиней, коли мы все начнем есть свинину, так что скоро ни за какие деньги не достанешь жареного сала.
и джессика повторяет дословно мужу выражения Ланселота: «он мне прямо говорит, что мне нет спасенья в небе, потому что я — дочь жида, и говорит, что вы дурной член республики, потому что, обращая евреев в христианскую веру, увеличиваете цену на свинину». конечно, человек убежденный не шутил бы в таком тоне над такими мнимо-серьезными вопросами. замечательно также, что Шекспир наделил Шейло-ка, при всей его бесчеловечности, —человечными чертами и показал, что он имел некоторое право быть столь несправедливым. зритель понимает, что при том обращении, которому подвергался Шейлок, он не мог сделаться другим. Шекспир пренебрег мотивом атеиста Марло, что еврей ненавидит христиан за то, что у них еще больше развиты ростовщические инстинкты, чем у него самого. При своем спокойно-гуманном взгляде на человеческую жизнь Шекспир сумел поставить жестокосердие и кровожадность Шейлока в связь с его страстным темпераментом и с его исключительным положением. вот почему потомство усмотрело в нем трагический символ унижения и мстительности порабощенной нации. никогда Шекспир не возвышался до такого непобедимого и захватывающего красноречия, как в знаменитой главной реплике Шейлока (III, 1):
Я — жид. да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу, что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием, подвержен не тем же болезням, лечится не теми же средствами, согревается и знобится не тем же летом и не тою же зимою? Когда вы нас колете, разве из нас не течет кровь, когда вы нас щекочете, разве мы не смеемся? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем, и когда вы нас оскорбляете, разве мы не отомстим? Если мы похожи на вас во всем осталь ном, то хотим быть похожи и в этом. Когда жид обидит христианина, к чему прибегает христианское стремление? К мщению. Когда христианин обидит жида, к чему должно по вашему примеру прибегнуть его терпение? Ну, тоже к мщению. Гнусности, которыми вы меня учите, я применяю к делу — и коли не превзойду своих учителей, так значит мне сильно не повезет!
но с особенной гениальностью схватил Шекспир типические расовые черты и подчеркнул еврейские элементы в фигуре Шейлока. если герой у Марло часто приводит сравнения из области мифологии, то начитанность Шейлока исключительно библейская. торговля служит единственной нитью, связующей его с культурой более поздних поколений. Шейлок заимствует свои сравнения у патриархов и пророков. когда он оправдывается примером иакова, его речь становится торжественной. он все еще считает свой народ «священным», и когда дочь похищает его бриллианты, он чувствует впервые, что над ним тяготеет проклятие. Герой же Марло произносит следующую немыслимую реплику:
«Я — еврей и вследствие этого осужден на погибель».
в Шейлоке также много других еврейских черт: его уважение к букве закона, постоянные ссылки на свое формальное право, являющееся его единственным правом в человеческом обществе, наконец, наполовину естественное, наполовину преднамеренное ограничение своих нравственно-моральных понятий принципом мести. Шейлок — не дикий зверь и не язычник, свободно проявляющий свои инстинкты. он умеет обуздывать свою ненависть и заключает ее в рамки законного права, как разъяренного тигра в клетку. он не обладает той ясностью и свободой, той беспечностью и беззаботностью, которые отличают добродетели и пороки, благотворительность и бессмысленную расточительность господствующей касты. но совесть никогда не мучает его. все его поступки соответствуют логически его принципам.
отчужденной от той почвы, того языка и общества, которые он считает родными, Шейлок сохранил свой восточный колорит. страстность — вот основной элемент его характера. он разбогател через нее. она сквозит во всех его поступках, соображениях и предприятиях. она воодушевляет его ненависть и его мстительность. Шейлок гораздо более мстителен, чем жаден. он падок до денег, но если представляется случай отомстить, он их не ставит ни во что. негодование на бегство дочери и кражу драгоценностей обостряет его ненависть к антонио настолько, что он отказывается от суммы, превышающей долг втрое. он и свою честь не продаст за деньги, хотя его представления о чести ничего не имеют общего с рыцарскими. он ненавидит антонио больше, чем любит свои сокровища. не жадность, а страстная ненависть превращает его в бесчеловечного изверга.
в связи с этой чисто еврейской страстностью, проглядывающей в мельчайших оттенках его речи, находится его нескрываемое презрение к лени и тунеядству. Это ведь тоже чисто еврейская черта, в чем нетрудно убедиться при самом поверхностном чтении библейских изречений. Шейлок прогоняет Ланселота со словами «в моем улье нет места трутням». восточный оттенок страстности Шейлока выражается также в его сравнениях, приближающихся по форме к библейской притче (обратите, например, внимание на его рассказы о хитрости иакова или на его защитительную речь, начинающуюся словами «обдумайте вы вот что есть немало у вас рабов»). специфически еврейское состоит в данном случае в том, что Шейлок употребляет при всей своей необузданной страстности такие образы и такие сравнения, которые запечатлены трезвым и своеобразным умом. У него постоянно торжествует острая, саркастическая логика. каждое обвинение он возвращает назад с процентами. Эта здоровая логика не лишена даже некоторого драматизма. Шейлок мыслит в форме вопросов и ответов. Это, конечно, второстепенная, но очень характерная черта. она напоминает ветхозаветный с гиль, и вы можете ее иногда встретить в речах и описаниях некультурных евреев. По словам Шейлока можно догадаться, что голос его певуч, движения быстры, жесты резки. с ног до головы он является типическим представителем своего народа.
в конце четвертого действия Шейлок исчезает с подмостков, чтобы не вносить дисгармонии в гармонический конец пьесы. Шекспир старается стушевать при помощи последнего действия мрачный тон общего впечатления. Перед нами пейзаж, озаренный луной и оглашаемый звуками музыки» [3].
так пишет о Шейлоке, безусловно, не христианин, получивший благодать духа святаго во святом крещении и силою этой благодати научающийся жить по закону любви. необыкновенно точно описывает Брандес характер Шейлока, передавая прежде всего его типические расовые черты, заостряя внимание на еврейских элементах натуры, к которым в первую очередь он относит неотъемлемую черту — страстность. и нет у Брандеса сожаления о том, что герой одержим страстями, от которых страдает душа. а мстительность оправдывается тем, что для нее есть основания, есть кому у нее поучиться — у христиан, ведь обиженный христианин, с его слов, непременно прибегает к мщению... формальное исполнение закона возводится в добродетель Шейлока, в то время как читатель поражается степенью его ненависти, скупости, жадности, желания мстить «обидчикам». Шейлок, один из наиболее характерных образов стяжателя в английской ренессансной литературе, своим обликом и поведением, по словам а. а. аникста, напоминает буржуа-пуританина XVI-XVII вв.: богатство для него — это средство самоутверждения и давления на окружающих. естественно, что он движим не только утилитарными целями. характер его — многосторонний, на что указывал еще а. с. Пушкин: «Шейлок скуп, сметлив, мстителен. Чадолюбив, остроумен». [Это высказывание а. с. Пушкина цитируется всеми литературоведами. оно взято из серии заметок Пушкина Table-talk (№ хVIII). Эта заметка условно именовалась в сочинениях Пушкина, изданных до 1933 года: «Шайлок, анджело, фальстаф»]. одна из доминант характера Шейлока — любовь к дочери и умершей жене. однако, когда дочь его предает, он ее проклинает.
в размышлениях Брандеса о убеждениях Шекспира, о государственной цензуре вполне слышится голос человека-либерала, очень далекого от той христианской основы и крепости, которая еще сохранялась у жителей европы времен Шекспира. Что касается знаменитого монолога Шейлока, то нельзя не согласиться с тем, что он справедливо называется многими критиками лучшей защитой равноправия евреев, какую только можно найти в мировой литературе, начиная с хIх века, когда положение евреев в европе значительно улучшилось. Шейлок становится трагическим героем, мстителем за свой народ. иного мнения о монологе Шейлока придерживался советский литературовед и искусствовед, виднейший отечественный шекспировед, председатель Шекспировской комиссии ан ссср александр абрамович аникст (1910–1988). аникст делал особый упор на то, что свой монолог Шейлок произносит прозой, и, следовательно, тот является комическим. По этому поводу в энциклопедии Шекспир автор-составитель в. д. николаев пишет: «но ведь и Гамлет высказывает прозой множество серьезных мыслей. конечно, «Гамлет» был написан пять лет спустя, но что мешало Шекспиру применять такой же прием и раньше?»
итак, монолог Шейлока — лучшая защита равноправия евреев. но с таким же большим успехом он прозвучит в защиту равноправия представителя любого народа, поскольку у всех одна физическая природа и одна свобода, данная при рождении —свобода выбирать между добром и злом. да и в чем же прежде всего проявляется равноправие — в обоюдной необходимости отвечать злом на зло, местью на месть? справедливо также будет утверждение, что несовершенный человеческий род по-разному, неодинаково использует и понимает свою свободу, по-разному понимает природу добра и зла.
отношение к власти денег и золота выражено в пьесе не только в связи с действиями Шейлока, но и, в более общей и скрытой форме, в сцене выбора ларца (III, 2). Бассанио отвергает золотой ларец, называя золото «личиной правды», которая прикрывает всякое уродство и порок. он презрительно отталкивает и серебро второго ларца, которое он называет «тусклым, пошлым посредником между людьми». им обоим он предпочитает «прямой» и «честный» свинец — и действительно, в свинцовом ларце он находит портрет Порции и свое счастье. и крайне примечательно для идейного единства пьесы то, что в этой сцене Бассанио от темы золота так естественно переходит к теме правды. но по этому же поводу в энциклопедии «Шекспир» можно прочитать следующее: «довольно наивным выглядит укоренившееся у многих суждение, что таким образом Шекспир обличал золото и серебро. Это типично фольклорный мотив: побеждает тот, кто выбирает не красивое и ценное, а то, что не имеет таких достоинств. не случайно лежащий в ларце свиток начинался с фразы «на внешность ты не стал смотреть» (свиток в ларце с золотом с фразы «не все то золото, что блестит»). да и о каком обличении золота, серебра, богатства можно говорить, если еще в начале пьесы Бассанио, очень высоко оценивая красоту Порции, начал все-таки с упоминания о том, что она богатая наследница? не за любовью он ехал в Бельмонт, а за деньгами, которых ему так не хватало. Уподобление же страха ошибиться пытке на дыбе — это не страх любви, а страх игрока» [5]. Что ж, поистине Шекспир — великий художник. вот какое впечатление о Шекспире, записанное в. ф. Щербаковым, было у русского гения а. с. Пушкина: «После чтения Шекспира я всегда чувствую кружение головы; мне кажется, будто я смотрел в ужасную, мрачную пропасть» [10].
а. а. смирнов считает, что Шекспир изображает Шейлока не только как нарост на теле венеции, не только как бич ее, но и как продукт и жертву ее уклада, самого ее строя. «Шекспир хорошо знал, что венеция его времени была образцом торговой республики, все благосостояние и политическая сила которой покоились на той «коммерческой честности», которая составляла и основу английского пуританства, уже медленно подбиравшегося в ту пору к политическому господству. ведь если нарушить хоть один раз условия векселя, законные права заимодавца, этим будет создан опасный прецедент, венеция сразу потеряет свой внешний кредит, свою основу и мощь! вот почему в сцене суда ни все сенаторы, ни сам дож, как им ни хотелось бы спасти антонио, не решаются вмешаться и нарушить «священную» букву закона, так для них важную. и Шейлок этим пользуется. Поскольку он лишен положения в обществе, титулов, даже равноправия, ему не остается ничего другого. «отнимая у меня имущество, вы отнимаете у меня жизнь!» — восклицает он в сцене суда. и эти слова служат ключом к пониманию всей сущности конфликта между торговой венецианской знатью и страшным, несчастным евреем» [7].
весьма сложная ситуация, связанная с ростовщичеством, сложилась в англии к тому времени. ростовщики, особенно эмигранты из других стран, всегда вызывали протесты не только у простого народа, но и в парламенте, который часто требовал у короля изгнать «чужеземцев». хо-линшед, английский историк-хронист, один из авторов «хроник англии, Шотландии и ирландии» (первое издание «хроник» 1578 г. — один из источников сюжета пьес-хроник Уильяма Шекспира) сочувственно пишет о подобных требованиях, поскольку эти «чужеземцы» «садились англичанам на шею и считали это законным». (Эти сведения я нашла в работе в. П. комаровой, научного руководителя шекспировского Центра академии Гуманитарного образования (санкт-Петербург) — профессора, доктора филологических наук, автора многочисленных трудов и монографий о Шекспире). не удивительно, что драматурги не могли обойти подобные конфликты своим вниманием. христиане унижали евреев не только потому, что те — христоубийцы, но и ненавидели их за ростовщичество. Шейлок ненавидит христиан не только за унижения, но и за то, что те мешают ему наживать богатство. но унижали также и христиан, и их святыни («он ненавистен мне как христианин» III,3). незадолго до создания пьесы Мартин Лютер писал об отношениях между христианами и евреями: «...Что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь, и ругань, и богохульства». Лютер также говорил о том, что Бог должен «увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на его сына и на его христиан».
Шейлок рассказывает, что антонио называл его псом, плевал на его кафтан, плевал в лицо, гнал пинками, когда тот проходил мимо крыльца.
Многие оскорбления происходили на риальто — острове, где находилась венецианская биржа. По без сомнения искреннему признанию Шейлока он «все сносил с пожатьем плеч покорным: терпенье — рода нашего примета». терпенью Шейлока наступает предел.
Иль, низко поклонившись, рабским тоном, Едва дыша и с трепетным смиреньем Сказать:
«Синьор, вы в среду на меня плевали, В такой-то день пинка мне дали, после Назвали псом; и вот, за эти ласки Я дам взаймы вам денег»,
— иронизирует Шейлок.
антонио в ответ заявляет, что и сейчас готов поступить с ним так же, но не видит в этом причин не давать себе и своему другу денег:
Когда же дружба ищет
Приплода от бесплодного металла?
Скорее одолжи их как врагу, Чтоб, если обанкротится. Спокойно Взыскать с него.
он сам провоцирует Шейлока на этот фунт мяса. Шейлока оправдать нельзя. но можно ли оправдать антонио?
должно быть, евреи-ростовщики превосходили христиан в хитрости, в лукавстве, в пороке, с которым и борется земная Церковь. иудей Шейлок видит в своей хитрости здравый житейский смысл, основанный на священной библейской истории. У Шейлока другая логика. в разговоре с антонио и Бассанио по поводу взятия в долг трех тысяч дукатов по векселю Шейлок вспоминает библейского иакова, героя иудейской торы, не случайно: когда иаков применил хитрость, он приобрел большое количество ягнят и козлят. отвечая на вопрос антонио, какое отношение этот рассказ имеет к ростовщичеству, Шейлок поясняет, что, как и иаков, заставляет свое богатство «плодиться». иаков, впоследствии израиль, был очень предприимчивым и хитрым человеком. Шейлок восхищается иаковом, который в итоге стал преемником авраама и исаака.
ростовщичество (как предприимчивость, предпринимательство для Шейлока) и хитрость, возведенная в убеждение (как характерная черта иудея Шейлока, помогающая ему сесть христианам на шею), суть две стороны одной медали. в. П. комарова, которая относит пьесу Шекспира к сатирическим и проблемным драмам, так пишет о проявленных в пьесе проблемах: «в драме «венецианский купец» антонио вызвал к себе ненависть Шейлок а не только потому, что он христианин. Шекспир пояснил, что главная причина в другом: антонио снабжает деньгами в долг без процентов и тем подрывает основы ростовщичества. Любопытное оправдание своего ремесла Шейлок находит в Библии. Библейские реминисценции встречались и раньше в речах самых разных персонажей в драмах на сюжеты из английской истории, например, Генрих VI пытался с помощью библейских наставлений примирить врагов, но эти попытки вызывали всего лишь раздражение и у врагов, и у сторонников благочестивого короля. ироническое восприятие евангельских заповедей сказывалось в монологах и репликах ричарда III, в комическом стиле обращается к священному писанию сэр джон фальстаф. в приведенных примерах библейские цитаты, заповеди, наставления соответствовали характерам и целям персонажей.
иные цели преследует Шейлок, который в драме не проявляет религиозного отношения к жизни и к людям, а в высшей степени обладает таким смертным грехом, как жажда богатства. характерно, что одним из самых любимых библейских персонажей является для Шейлока иаков. сын исаака и ревекки, внук прародителя евреев авраама, иаков пользуется любовью Бога, который ему помогает во всех делах. для Шейлока, да и для всех почитателей ветхого завета, иаков служит примером предприимчивости и хитрости в достижении жизненных благ. в книге Бытия рассказана история его поступков, которые вызывают восхищение авторов текста. он появился на свет чуть позже исава, но купил у брата право первородства: когда после тяжелой работы исав пришел голодный, то иаков предложил ему продать первородство за чечевичную похлебку. с помощью ревекки он обманул умирающего исаака: тот благословил его как старшего сына, потому что уже ослеп, а иаков набросил на тело шкуры и выдал себя за волосатого брата.
в драме Шейлок упоминает эпизод из того периода жизни иакова, когда тот работал у своего дяди Лабана, чтобы получить в жены его дочь рахиль. однако после семи лет Лабан подсунул в брачную ночь пьяному иакову старшую дочь Лию — в глоссах Женевской библии есть пояснение, что Лабан хотел заставить иакова служить ему еще семь лет. Лия родила ему шестерых детей, а рахиль, которую иаков наконец получил в жены, долгое время была бесплодной. она заметила, что сыновья приносят Лие растение мандрагору, и попросила сестру поделиться с ней. Лия согласилась с условием, что рахиль уступит ей мужа, чтобы еще родить, — и рахиль продала на время иакова. Подобное поведение женщин не осуждается, ибо, по убеждению авторов и комментаторов, плодовитость — главное достоинство женщины и все средства оправданны. не вызывает осуждения и другой поступок рахили: она отдала иакову в наложницы свою служанку, как это когда-то сделала сара, отдав аврааму агарь (этот момент упомянут в реплике Шейлока о Лан-челоте «семя агари»).
однако самый изобретательный и хитроумный поступок иакова — приобретение большого количества ягнят и козлят, когда иаков уже задумал покинуть Лабана. он заключил договор, что получит пестрых новорожденных, а затем отобрал самых здоровых маток и в моменты зачатия ставил перед ними прутья тополя, орешника и каштана, на которые нанес белые полосы — тогда ягнята и козлята рождались пестрыми. Эту хитрость и прославляет Шейлок, называя уловку иакова «благословением». когда антонио спрашивает, какое отношение имеет рассказ к ростовщичеству, Шейлок поясняет, что свое богатство он заставляет «плодиться», как это делал иаков. антонио комментирует рассказ своему другу Бассанио: «дьявол может ссылаться на священное писание в своих целях». Упоминание в речи Шейлока о его друге, преуспевающем ростовщике тубале, также связано с библейским текстом. «тубал, богатый еврей моего колена», — говорит Шейлок, и эта реплика проясняет генеалогию Шейлока: в книге Бытия (10:2) тубал — один из сыновей иафета (у ноя было три сына: хам, сим, иафет, и каждый имел многочисленных потомков). косвенно, это замечание Шейлока намекает на древнееврейское «колено», ведущее начало от иафета, «колено», особенно восхваляемое в Библии. Любопытно, что во второй части хроники «Генрих IV» принц иронизирует над теми, кто из тщеславия возводит свой род к библейскому иафету.
Библейские реминисценции в речах Шейлока (их больше, чем здесь упомянуто) проясняют в завуалированном стиле весьма критическое отношение Шекспира к некоторым эпизодам из ветхого завета: цели, ремесло и общее отношение к жизни Шейлока соотнесены с древними событиями и героями из истории еврейского народа — таким образом,
Шейлок предстает как воплощение древнейших принципов, освященных в Библии, где богатство представлено как дар Бога своим избранным сынам; благодаря Богу авраам, исаак, иаков, соломон получают необыкновенное богатство, долголетие и многочисленное потомство.
Шекспир наделил Шейлока изобретательным умом, знанием законов того общества, в котором он живет, способностью страстно и убедительно защищать свой народ и свою собственность и при этом показал, что ненависть Шейлока к антонио трудно объяснить разумными причинами, она не имеет рациональной основы. Эта особенность вражды Шейлока раскрыта в его собственной речи, когда он отказывается объяснить причину:
Так склонность,
Страстей хозяйка, направляет их
К любви иль отвращенью. Вот ответ мой?
Как объяснить нельзя определенно,
Из-за чего один свиней не любит,
Другой — невинной и полезной кошки, Волынки — третий, но неодолимо Он слабости постыдной поддается И угнетенный, угнетает сам, Так не могу и не хочу назвать Других причин тому, что я веду Безвыгодный процесс против Антонио, Чем ненависть. Что, это не ответ?
(IV, 1, перевод т. Л. Щепкиной-куперник)
в этой речи можно видеть косвенное суждение самого Шекспира о вековых проявлениях вражды евреев и христиан. Бассанио пытается логическими доводами убедить Шейлока: « да можно ль всех убить, кого не любишь?», «неужели сразу / должна обида ненависть родить?» — все попытки оказываются бесполезными, и Шейлок защищает свое право получить неустойку, ссылаясь на законы венеции: «Мне отказав, вы ввергнете в опасность / республики законы и свободу». особенно значительные аргументы добавляет Шейлок, приводя в пример незыблемые законы собственности:
У вас немало купленных рабов;
Их, как своих ослов, мулов и псов,
Вы гоните на рабский труд презренный, Раз вы купили их. Ну, что ж сказать вам: «Рабам вы дайте волю; пожените
На ваших детях; чем потеть под ношей, Пусть спят в постелях мягких, как у вас, Едят все то, что вы»? В ответ услышу: «Они — мои рабы».
на эти аргументы дож ничего не может возразить. и если ненависть Шейлока иррациональна, то защита собственности и ссылки на законы венеции вполне логичны и убедительны: если собственность охраняется законами государства, то Шейлок реализует свое право на собственность. Проклятия своих врагов Шейлок встречает спокойно, уверенный, что закон на его стороне. в призывах Порции к милосердию Шейлок не видит угрозы, Порция говорит, прибегая к евангельским текстам, напоминая о милосердии Бога, но призывы к милосердию не могут поколебать Шейлока. и когда Порция подтверждает его право получить неустойку, Шейлок восхваляет судью как нового даниила. впоследствии его враги иронически повторяют это имя. даниил, один из самых знаменитых библейских мудрецов, стал символом судьи и пророка, чьи деяния вызывали неизменное восхищение, — они изложены и в книге даниила, и в апокрифической истории сусанны, оклеветанной двумя старцами. в драме это библейское имя введено с иронией, ибо сразу же выясняется, что Порция прибегла к хитрости: в договоре не сказано о праве пролить кровь, а кроме того, истец не может вырезать больше или меньше фунта. Шейлок посрамлен, как и в легенде, однако Шекспир ввел добавление: Порция обвиняет его в покушении на жизнь христианина, что с точки зрения юристов неправомерно. однако позднейшие споры юристов отвлекают от главной темы — соотношение правосудия и милосердия» [4].
на суде Порция произносит один из самых знаменитых шекспировских монологов, который начинается словами:
Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба На землю...
акт IV, сцена 1, строки 183–185
да, заставить человека быть милосердным нельзя, но милосердие не нуждается в принуждении. Человек милосерден просто потому, что «милость... есть свойство Бога самого». когда Шейлок требует буквального выполнения сделки, Бассанио в отчаянии предлагает удесятерить взятую взаймы сумму, а когда это не помогает, он, человек грешный, умоляет судью:
Закон хоть раз своей склоните властью;
Для высшей правды малый грех свершите.
акт IV, сцена I, строки 214–215
По поводу этого момента в пьесе Шекспира интересно обратиться к тексту «Путеводителя по Шекспиру», написанного айзеком азимовым. (имя при рождении — исаак Юдович. родился в 1920 году в Гомельской губернии. его родным и единственным языком в детстве был идиш. Умер в сШа в 1992 году. известен как классик американской фантастической литературы, популяризатор науки. Профессор биохимии. также писал научно-популярные книги по религиоведению. Был одним из основателей организации скептиков в сШа. автор «азимовского путеводителя по Библии»).
а. азимов пишет относительно правосудия и милосердия в шекспировской пьесе:
«в каком-то смысле этот спор — отражение философского диспута между христианами и иудеями (конечно, в христианском преломлении) о духе и букве закона. в новом завете ортодоксальные фарисеи изображены приверженцами буквы закона, в то время как более либеральный иисус может пойти на отступление от буквы, если при этом сохраняется дух. наиболее четко это выразил святой Павел, писавший, что Бог «...дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит» (2 кор. 3:6) [1]. нет сомнения в том, что многоуважаемый ученый муж знает, как отличать людей по степени либеральности. но что тогда является высшей точкой отсчета, тем эталоном либеральности, к идеалам которой обращено сердце писателя-фантаста? для христианина его доводы не убедительны, но заслуживают уважения, как мнение высокообразованного человека в эпоху провозглашенных свобод каждого человека выражать свою «истину». в своей работе ученый также пишет: «с христианской точки зрения на смену диетическим законам Моисея давно пришло видение святого Петра, а книга Левит стала пустым звуком»; фразу о свинине «можно рассматривать как насмешку Шейлока над детскими суевериями
(с его точки зрения), которые составляют основу христианской религии»; «Шекспир сознательно решил изобразить злодея, а самый лучший способ сделать это — заставить персонаж пьесы смеяться над тем, что свято для публики»; «Шекспир, который всегда чутко реагировал на настроение общества и стремился к коммерческому успеху своих трудов, тут же понял, что нужно написать пьесу на эту тему, и сочинил «венецианского купца»; «антонио злодеем никто не считает. для хри-стиансокой публики ненависть Шейлока к христианам является признаком врожденного злодейства, в то время, как ненависть антонио к евреям не только вполне естественна, но и достойна похвалы. конечно, если бы публика состояла только из евреев, точка зрения была бы полностью противоположной (но не менее разумной). Увы, двойной этический стандарт по отношению к собственному поведению и поведению врага распространен повсеместно и является источником страдания для меньшинства»; «Шекспир потакает вкусам публики, уверенный в том, что дом еврея обязательно сущий ад»; «для елизаветинской публики кража у еврея не считалась преступлением»; «Шейлок, взбешенный заговором, который (как он уверен) устроил человек, получивший у него ссуду, может думать только о мести, причем самой кровавой. хотя сама мысль о мести сочувствия не вызывает, однако, мы поймем Шейлока, если мысленно поставим себя на его место»; «складывается впечатление, что Шекспир идет на поводу у собственного гения; стремясь любой ценой создать убедительный характер, он придает Шейлоку трагическое достоинство (похоже, против собственной воли) и вкладывает в его уста слова, на которые насмешливым венецианцам ответить нечего»; «настоящий еврей защищался бы более искусно. и все же точка зрения автора ясна. Шейлок не претендует на превосходство над христианами. он только доказывает, что евреи ничем не хуже последних, и добивается успеха, несмотря на антисемитский контекст пьесы. все остальные персонажи унижают и мучают его, не испытывая при этом никаких угрызений совести и не сознавая собственной вины. даже псевдоблагородный антонио не видит в этом ничего зазорного. в отличие от них Шейлок знает, что такое злодейство. он признает собственный план гнусным, но оправдывается тем, что научился гнусности у христиан. Понимание сущности злодейства с точки зрения морали возвышает Шейлока над его мучителями»! [1]
здесь звучит другая, противоположная христианской, духовность. Получается, что Шейлок возвышается над мучителями-христианами, так как высоко его понимание сущности злодейства с точки зрения морали... с кем тут спорить? Это тот случай, когда в споре не родится истина. вот по преимуществу к каким людям пришел Господь! он пришел к своим, но они не узнали его и не приняли, в основном они и были такими, с печатью на сердце и закоснелым умом, боготворящими только свое ожидаемое земное, материальное благополучие...
Поистине, не мир принес спаситель, а меч! выше прозвучало слово враги, как бы представляя проблему абсолютно безвыходной, бесконечной, непримиримой. разве не в противоположном ключе пишет Шекспир? если радость и любовь к жизни и всем, что в ней не слышна в пьесе? немногими, но выразительными штрихами передал Шекспир атмосферу венецианской жизни — совмещение в ней кипучей деловой деятельности с праздничным духом. светлое настроение усиливается вставленными в пьесу многочисленными шутками и комическими сценами, особенно теми, в которых участвует Ланчелот Гоббо. но особенно радужный характер придает пьесе ее пятый акт, в котором красота природы, гармония мироздания, любовь и радость по поводу победы над злым началом слились в очаровательную лирическую картину. трагическое же проявляется в том, что иррациональное зло, ненависть напоминают о своем, увы, роковом существовании, внутри которого мрак. нужно иметь сильное желание, решимость, чтобы другой мир, христов, приоткрылся ищущему его. Этот другой мир, мир христа, готов принять с любовью, в нем нет секретов, он для всех. Бесполезно рассуждение об этом другом мире, нужно иметь для того причастность к духу этого мира, ибо подобное познается подобным.
с исторической точки зрения пьеса Шекспира представляет большой интерес. Местом действия является один из самых замечательных городов в истории. Этот город в дни своей славы был более богатым и более могущественным, чем любое другое государство, его называли царицей морей и твердыней против грозных турок. венеция была независимой и процветала за счет морской торговли до хV века. в 1453 году турки взяли константинополь, это затруднило торговлю с востоком. в хVI веке полуостров впадает в нищету, могущество подорвано войнами с турцией, но даже во времена Шекспира венеция сохраняет претензии на мировое господство, благодаря прочным органам власти, богатым купцам, искусным морякам, а также колониям и факториям, разбросанным по средиземноморью. во времена Шекспира наблюдается расцвет венецианского искусства тициан, тинторетто. в экономике венеции зарождается капитализм. венеция представляет собой «новоявленное общество буржуазного капитализма, оно уже не феодальное, но еще не индустриальное. феодальное общество основано на праве, даруемом при рождении... однако в «венецианском купце» существенно воспитание, а не наследственные права», — говорит в «Лекциях о Шекспире» Уистен хью оден (1907–1979), англо-американский поэт, англиканец. оден обращает внимание на то, что с переменой экономической ситуации существенно меняются отношения в обществе. «в отличие от феодального общества, основанного на земельной собственности, общество «венецианского купца» зиждется на деньгах, источник которых — спекулятивная торговля, а не производство, как в промышленном обществе. здесь возможно внезапное обогащение и столь же внезапное разорение, а деньги — это не только средство обмена, но и товар. как заимодавец, Шейлок повинен в ростовщичестве. в эти времена традиционное отношение к ростовщичеству начало меняться. в обществе, где деньги превратились в необходимость, возникает противоречие между отвращением к ростовщикам и нуждой в ростовщичестве. Лицемерие в том, что, несмотря на обличение ростовщичества и презрение к ростовщикам, люди все равно идут к ним» [6]. Люди шли брать в долг и у антонио, который сказал, что не дает денег в рост: долги у него берут без процентов. со своим другом, безусловно, он поступал именно так. «но не мог же антонио, — пишет в энциклопедии «Шекспир» в. д. николаев, — с самого начала показанный в качестве удачливого купца, давать деньги в долг без процентов кому ни попадя, рискуя этих денег лишиться. все дело в том. Что на протяжении многих веков христиане не имели права заниматься ростовщичеством; это разрешалось делать только евреям. даже после того, как Генрих VIII позволил христианам занятие ростовщичеством, устоявшаяся за столетия неприязнь не могла, конечно, исчезнуть. Поэтому многие ростовщики-христиане прибегали к тому же способу, который использовался и во времена запрета. Получавший долг сразу подписывал в векселе не полученную сумму, а ту сумму с процентами, которую он должен вернуть (якобы именно столько он взял в долг). зрители Шекспира прекрасно все знали: кто-то из них пользовался услугами подобных ростовщиков, а остальные слышали об этом. им было понятно, что «нелегальный» ростовщик антонио и законный ростовщик Шейлок являлись конкурентами, представителями двух противоречащих друг другу направлений» [5]. национальные конфликты в драме связаны с более глубокими отношениями собственности. Шейлок — порождение мировосприятия, типичного для древнейших времен и для жизни венецианской республики. столкновение еврея и христианина в данной пьесе получило глубокое историческое и социальное освещение, а автор пьесы отразил жизнь, какой она тогда и была.
и все же еще не все сказано о ростовщичестве. английское слово usury (ростовщичество, то есть выдача займов под проценты) происходит от слова use– «использовать» (деньги); родственным ему словом является usury (ростовщический процент). в стародавние времена выдача денег взаймы была дружеским или благотворительным жестом, объяснявшимся стремлением помочь человеку; брать больше того, что ты дал сам, считалось чрезвычайно неблагородным. требование процентов (или «интереса») строго осуждалось этическими нормами иудаизма. в книге исход (22:25) Бог говорит: «если дашь взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». однако в более развитом обществе деньги ссужали не только друзьям, но и незнакомым людям, причем не тем, кто попал в беду, а тем, кто нуждался в деньгах ради собственного дела, которое в конце концов (по крайней мере, на это была надежда) должно было принести прибыль. за займы, взятые для деловых целей, следовало платить. При большем риске потери денег процент увеличивался.
средневековая церковь не делала различий между ссудами из соображений благотворительности и ссудами с деловыми целями, а потому запрещала взимать с должников проценты в любом случае.
однако евреи могли толковать параграф исхода как запрет давать деньги в рост только евреям (народу Моему»); следовательно, по отношению к неевреям это разрешалось. в христианских странах для евреев существовал постоянно расширявшийся запрет на профессии; в конце концов для них практически не осталось ничего, кроме ростовщичества, заниматься которым (по крайней мере, теоретически) христианам было запрещено.
в связи с этим а. азимов пишет: «в результате образовался порочный круг. евреи были вынуждены заниматься ростовщичеством, а то, что они были ростовщиками, рассматривалось как доказательство их природной алчности и злодейства. однако, по иронии судьбы, христиане в области ростовщичества были совсем не такими добродетельными, какими должны были являться теоретически. Церковные структуры не могли устоять перед требованиями экономики. впервые ростовщики-христиане появились в северной италии, поэтому слово
«ломбардец» см. в гл. 15: «Падую, наук питомник») в англии стало синонимом слов «ростовщик» и «заимодавец». итальянские ростовщики появились в XIII в.; именно это позволило королю Эдуарду I отказаться от услуг евреев и выслать их из страны» [1].
итак, закономерности жизни общества и государства у Шекспира соотнесены с мотивами поведения персонажей. сложнейшие вопросы ставила перед обществом его эпоха, но так было и до Шекспира, и будет после него. если вопрос времени — вопрос собственности — он все-та-ки не мог волновать художника больше всего. а вот то, что не могло не коснуться художника-христианина, так это сложность развития жизни человеческого общества и, главное, человеческой души в этом мире, с точки зрения соотношения и влияния друг на друга земных (бытовых, экономических, политических...) и неземных (вечных, вневременных, духовных) задач, которые вставали все острее и острее. Чем дальше идет время вперед, тем острее противоречие между этими задачами, тем труднее вопросы, которые вынуждена была решать и тогда, и сейчас христова Церковь, которая гонима всегда, тем труднее людям, отдаляющимся от Бога, вспомнить или понять, что Церковь — это сам христос, который всегда тот же.
совершенно естественно, что восприятие драмы «венецианский купец» во все эпохи отражало расовые симпатии и пристрастия, а также отношение к тому критическому событию в мировой истории, которое произошло в иерусалиме «при Понтийстем Пилате». После смерти на самом позорном для иудеев, постыднейшем орудии казни — кресте — раз-дралась церковная завеса, померкли небеса, из гробов вышли ожившие мертвецы, а через некоторое количество часов Господь воскрес. но подобно церковной завесе произошло разделение иудейского народа на две части, и все человечество по-прежнему разделено на две половины: принявшие распятого христа и не принявшие, ибо он пришел « на падение и на восстание многих в израиле и в предмет пререканий» (Лк., 2:34) Противящиеся не хотят услышать, что есть выход — Путь, что спасение уготовано «пред лицем всех людей (= народов), свет к просвещению язычников и славу народа твоего израиля» (Лк. 2:25-32).
в. П. комарова пишет о восприятии драмы актерами и критиками: «Подобно тому как трагедия «кориолан» никогда не ставилась на сцене в таком виде, как написал ее Шекспир, но всегда в переработках, отражающих социально-политические взгляды режиссеров, так и «венецианский купец» вплоть до хх века ставился в театральных обработках. Уже в хVIII веке актер Чарльз Маклин превратил Шейлока в трагического героя, в интерпретации выдающихся актеров Эдмунда кина, Чарльза Макреди, Генри ирвинга Шейлок воплощал героя-страдальца и мстителя за свой народ. в критических исследованиях много внимания уделялось вопросам чисто юридическим, а ее требование конфискации имущества и обвинение Шейлока в покушении на жизнь христианина некоторые юристы объявляли незаконными. в финале Шейлок, по мнению критиков, вызывает симпатии зрителей — естественно спросить, каких зрителей и в какое время, — подобная модернизация порождена актуальностью поставленных в драме вопросов. однако многосторонность и объективность Шекспира не должны порождать субъективные комментарии» [4]. в пьесе не только выражено глубокое понимание многовековых отношений иудеев и христиан, но также создан сложный, своеобразный характер Шейлока, охваченного разными страстями и наделенного чувством собственного достоинства. и все-таки он не является трагическим героем, так как его участь решена на суде наилучшим образом. суд милостив к нему, подтверждением тому — условие, что Шейлок должен принять христианство. в этом многие усматривают неуважение к человеческой личности. в наше время не навязывают крещение. но для Шейлока это было проявлением высшей милости, любви, ему не мстят, не дают урок высшего понимания зла с точки зрения морали. судьба дает ему залог прощения — шанс и надежду на спасение в вечности, возможность адаптироваться как «чужеземцу», примириться по закону любви со своими врагами... конечно. Шейлок становится материально бедным человеком, но жизнь дороже денег!
Появление христианства коренным образом изменило человечество, которое обрело понимание смысла истории и цели жизни. досадно, что со временем сострадание к людям, сочувствие, милосердие, забота о ближнем, всепрощение и другие христианские идеалы принимают искаженные формы не без влияния соблазнительных идей с запада. в мятежном хIх веке и в начале хх века в русской печати можно было найти богатую полифонию мнений. свое видение духовной проблематики пьесы «венецианский купец» представил видный русский музыкальный и художественный критик, в молодости петрашевец, вдохновитель и историк Могучей кучки и «передвижников», общественный деятель, друг Л. н. толстого, почетный член российской академии наук, активный критик антисемитизма владимир васильевич стасов (1824–1906).
таким образом, существуют самые разные трактовки замысла великого драматурга. с мнением в. в. стасова я согласиться не могу.
конец произведения радостный, нет ощущения того, что автор описывает трагедию, безысходную, беспросветную, неразрешимую. иначе Шекспир не увел бы Шейлока со сцены, стараясь возбудить к поверженному сочувствие. После сцены суда следует несколько сцен, где шутливое, комическое настроение всех персонажей резко контрастирует с темой страданий Шейлока. в произведениях Шекспира финальные сцены имеют очень большое значение для понимания авторского замысла. в данном случае не просто так возникает ощущение того, что земная тяжесть исчезает, в высоте открываются безграничные сферы гармонии, любви и вечной жизни.
Любовь превыше всего, сильнее всего. Любовь и есть истина и идеал христианства. Шекспир написал христианское произведение!
Список литературы Духовная проблематика комедии В. Шекспира «Венецианский купец»
- Азимов А. Путеводитель по Шекспиру. Греческие, римские и итальянские пьесы. М., 2007.
- Аникст А. Шекспир. (К 375-летию со дня рождения) // Книга и пролетарская революция. 1939. № 4. С. 114–118.
- Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения. М., 1997.
- Комарова В. П. Творчество Шекспира. СПб., 2001.
- Николаев В. Д. Энциклопедия Шекспир. М., 2007.
- Оден У. Х. Лекции о Шекспире. М., 2008.
- Смирнов А. А. Комментарии к переводу «Венецианского купца» Щепкиной-Куперник. Л., 1939.
- Смирнов А. А. Творчество Шекспира. Л., 1934.
- Стасов В. В. Венецианский купец Шекспира. СПб., 1904.
- Щербаков В. Ф. «Пушкин-критик». М., 1950.