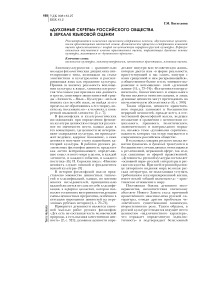«Духовные скрепы» российского общества в зеркале языковой оценки
Автор: Васильева Галина Михайловна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 1 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются изменения оценочного содержания лексики, обусловленные ценностными ориентациями носителей языка. Динамические процессы в содержании языковой оценки прослеживаются с опорой на ценностную иерархию русской культуры. В фокусе внимания оказывается именно нравственная оценка, отражающая духовные основы культуры, являющиеся ее «духовными скрепами»
Ксиология культуры, лингвокультурология, ценностные ориентации, языковая оценка
Короткий адрес: https://sciup.org/14031476
IDR: 14031476 | УДК: 008+81.27
Текст научной статьи «Духовные скрепы» российского общества в зеркале языковой оценки
Terra Humana
Лингвокультурология – сравнительно молодая филологическая дисциплина синтезирующего типа, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и рассматривающая язык как отражение культуры. Приняв за аксиому реальность воплощения культуры в языке, лингвокультуроло-гия тем самым уже признала как данность и третье, связующее звено известной триады «Личность – Язык – Культура»: «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [5, с. 7].
В философских и культурологических исследованиях при определении феномена культуры ценностям отводится различное по значимости место, однако даже в тех концепциях, где ценности не исчерпывают содержания культуры, им принадлежит ведущее, ядерное положение, а сами ценности получают статус важнейших категорий культуры. В работах русских религиозных философов ценность предстает как «нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [6]. П. Сорокин писал: «Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры» [9] .
В истории философской мысли представлено множество ценностных типологий и классификаций, однако, по мнению многих исследователей, принципиально важной является не сама по себе классификация, а иерархия ценностей, которая позволяет установить внутреннюю тенденцию смены ценностных прерогатив, особенно в ситуации переоценки ценностей на переломных рубежах истории [4, с. 70–71].
Приоритет духовности является сквозной мыслью работ русских философов: «Дух есть не составная часть человеческой природы, а есть высшая качественная ценность» [2, с. 321]; духовные ценности опре- деляют изнутри всю человеческую жизнь, которая дается нам «в форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся», а общественное бытие и есть «внешнее выражение и воплощение» этой «духовной жизни» [11, c. 73–74]»; «Все ценности неорганического, биологического и социального бытия являются относительными, и лишь духовные ценности могут претендовать на всечеловеческую абсолютность» [6, с. 300].
Таким образом, ценности нравственного порядка занимают в большинстве иерархий ценностей, прежде всего, в отечественной философской мысли, ведущее положение в сравнении с ценностями социального, правового, политического, экономического и материального порядка, являясь теми «духовными скрепами», важность которых так остро ощущается в современном российском обществе.
В толковых словарях русского языка понятия духовность и духовный трактуются в большинстве случаев двояко: относящиеся к религиозной, церковной сфере, так или, как связанные со сферой нравственной. «Духовность» русской культуры составляет «основной нерв» русской литературы и русского искусства. При всей огромной разнице авторского видения мира великая русская литература, не пожелавшая уступать требованиям секуляризированной жизни, имеет некий «общий знаменатель» – христианское отношение к миру.
Постоянная боязнь духовного несовершенства, несоответствия этическому абсолюту Нового Завета стала причиной нравственного максимализма русской литературы, отведя другим проблемам человеческого существования зависимую, второстепенную роль. Таким образом, в русской культуре отводится ведущее место ценностям «надличностного характера», что отражает определенную «идеалистичность» и подтверждает безусловный приоритет духовности (далеко не только узкорелигиозной) в иерархии ценностных оснований культуры, диктуя свой высший нравственный закон, предполагающий высокую значимость совести, жертвенности и самоотречения, терпения, скромности, а также способность и потребность в сочувствии и сострадании; немеркантильность, нестяжательность, отсутствие определяющей роли денег и коммерческого успеха и др. Эти базисные ценности русской культуры эксплицируются в бесконечном количестве литературных, философских, религиозных, фольклорных текстов.
Следует отметить, что в многочисленных работах различной направленности, посвященных состоянию ценностных ориентаций современного российского общества, отмечается определенная переоценка ценностных ориентиров, определенное их отстояние от нравственных приоритетов национальной культуры (см. работы Т.В. Писановой, М. Пацаевой, И.А. Стернина, А.Я. Варги, результаты социологических опросов и др.).
Поскольку язык способен отражать глубинный уровень ценностного сознания, то о характере ценностных изменений могут свидетельствовать и динамические процессы в содержании слова. Ценность как центральная категория описания культуры, находящая отражение в языке, требует введения понятия оценки, поскольку именно «знанием о ценности обозначаемого можно объяснить тот тип информации, который выражает оценку» [10, с. 109]. Под обобщенной языковой оценкой лингвисты предлагают понимать «соотнесение выраженного словом понятия с уровнем аксиологической шкалы: «хорошо», «плохо» [8, с. 172].
В исследованиях оценочной семантики представлены различные классификации оценок. Так, Н.Д. Арутюнова выделяет следующие группы оценок: сенсорно-вкусовые и психологические; сублимированные (эстетические и этические); рационалистические оценки [1]. Исследователи подчеркивают, что специфика русского ценностного сознания определяет и один их важных аспектов языковой оценки, ввиду чего этические оценки (связанные с удовлетворением нравственного чувства) нередко оказываются более значимыми, чем, например, оценки рационалистического характера , связанные с практическими интересами и повседневным опытом человека [3, с. 22].
Исследователи подчеркивают, что у представителей различных лингвокультурных общностей, ориентирующихся на различные системы ценностей, нередко наблюдаются несовпадения оценок. Интересные данные по этому поводу приводит Г.Н. Скляревская: «Слово герой, которое для русских имеет только положительную оценку, шведскими студентами и преподавателями русского языка, участвующими в лингвистическом эксперименте по определению языковой оценки, было почти единодушно оценены отрицательно (было высказано даже такое мнение: «Герой – это дурак»). Финские студенты были крайне удивлены, узнав о том, что в русском языке есть глаголы отрицательной оценки со значением «работать» (вкалывать, ишачить, ломить, пластаться)» [8, с. 179].
Статус ценностных ориентаций ценности культуры приобретают через отношение к тому или иному объекту, имеющему определенный жизненный смысл и значимость для субъекта культуры. Исследователи предпринимают постоянные попытки систематизировать все многообразие существующих ценностных ориентаций посредством объединения культур в принципиально различающиеся группы. Эти группы называются по-разному: западные и восточные культуры, простые и сложные, индивидуалистические и коллективистские, открытые и закрытые и многие др.
В основаниях различных культур обнаруживается система взаимосвязанных культурных универсалий, которые выступают формами хранения и трансляции социального и нравственного опыта и образуют мировоззренческую структуру, характеризующую время, природу, пространство, человека, деятельность и многое другое.
Среди культурных универсалий значимым является отношение к возрастным характеристикам человека. Специфика ценностных ориентаций представителей коллективистских и индивидуалистических культур проявляется в различном отношении к значимости так называемых демографических , в том числе возрастных характеристик. На самых границах культурного разнообразия по шкале коллекти-визм/индивидуализм находятся западные (в первую очередь американская) культуры и восточные, где одно из ведущих мест принадлежит китайской культуре.
В современные представления американцев об особенностях своей культуры включена следующая ценностная ориентация: американцами обычно выше ценятся качества, присущие молодым . Эта ориентация закономерна, так как ведущими положительными чертами своего национального
Общество
Terra Humana
характера американцы считают активность и энергичность , которые соответствуют важным положениям американской протестантской этики и, в первую очередь, свойственны именно молодым. Исходя из этой ценностной ориентации общества «на молодость», само это понятие получает ярко выраженную позитивную оценку.
Эта оценка вступает в диссонанс с ценностными ориентациями, существующими, например, в китайской культуре, где исходя из традиционных конфуцианских добродетелей, среди которых особое место занимает так называемая «сыновняя почтительность», обычно выше ценятся возраст, опыт и мудрость . Интересно, что в 1990 г. институт социологии Пекинского народного университета провел исследование, в котором были подвергнуты опросу жители 13 провинций и городов Китая, которых попросили выразить свое отношение к различным качествам личности. 80% опрошенных по-прежнему считают «сыновнюю почтительность» одной из главных жизненных ценностей и потому молодое поколение китайцев до сих пор не может позволить себе «спор на равных» со старшим по возрасту оппонентом ни в семейной, ни в служебной сферах.
Интересно, что различия в ценностных ориентациях представителей этих культур проявляются на занятиях по русскому языку со студентами-филологами, например, при чтении и интерпретации сказочных, поэтических и публицистических тестов, при обсуждении текстов современной рекламы, а также в процессе изучения и употребления отдельных лексических единиц русского языка.
В качестве примера можно привести группу лексем русского языка, связанную с понятием возраста: молодой, моложавый, молодящийся. Лексемы моложавый и молодящийся содержащую оценочный компонент, неодинаково интерпретируемый американскими и китайскими студентами, находящимися на продвинутом этапе обучения русскому языку.
С целью выявления оценочного отношения к возрастным характеристикам человека на материале их номинаций в русском языке был проведен направленный опрос среди русских, китайских и американских студентов, аспирантов и преподавателей. В опросе приняли участие представители филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена: 20 преподавателей, 20 русских студентов и аспирантов, 20 китайских магистрантов и аспирантов, а также 20 американских студентов, изуча- ющих русский язык на факультете Свободных наук и искусств СПБГУ. Участникам опроса было предложено выразить свое оценочное отношение к моложавому человеку и молодящемуся человеку с помощью следующей оценочной шкалы: (+), (-), (+/-), (-/+), (). Следует отметить, что все иностранные студенты находились на продвинутом уровне владения русским языком и точно представляли себе семантические различия включенных в опрос лексем. У носителей русского языка лексема моложавый получила преимущественно положительную оценку (+/-), а лексема молодящийся - преимущественно отрицательную (-/+), т.е. способность выглядеть молодо (лексема моложавый) оценивается русским сознанием выше, чем стремление казаться моложе своих лет (лексема молодящийся).
При этом понятие молодящийся русские соотносят, прежде всего, с женщиной и включают в него такие компоненты, как несоответствующее возрасту, слишком интенсивное использование косметики , несоответствующая возрасту одежда и несоответствующая возрасту, нарочито оживленная манера поведения .
Такое одобрение моложавого человека и неодобрение молодящегося во многом совпало с ценностными ориентациями китайской аудитории и не совпало с ценностными предпочтениями американцев, оценивших молодящегося человека более высоко, чем моложавого , так как, по их мнению, «моложавость» может быть свойственна человеку сама по себе, без всяких усилий с его стороны, в то время как «молодиться» – это активно стремиться быть моложе и выглядеть моложе, прикладывая к этому значительные усилия, преодолевая старость, слабость и болезни.
Однако представляется существенным, что оценки носителей русского языка не были столь однозначными как оценки представителей китайской и американской культур. Представители старшего поколения русских дали понятию молодящийся однозначно негативную оценку, в то время как младшие участники опроса не были столь единодушными. Неоднозначность своей оценки они связывали с явными преимуществами молодости, проявившимися в нашем обществе в последние годы, в период становления рыночных отношений. Чрезвычайно ускорившийся ритм жизни, укрепившийся возрастной ценз при поступлении на работу, явное омоложение «властных структур», заметное понижение так называемого «возрастного порога достатка» и некоторые другие явления в экономической и социальной сферах жизни повышают в российском обществе статус молодости и оправдывают, по их мнению, стремление старшего поколения казаться моложе своих лет. Таким образом, очевидна направленность движения ценностного сознания – от значимости оценки этического, нравственного характера (в данном случае, это уважение к мудрости и опыту, сочувствие к слабости и т.д.) к оценке рационалистического характера (преимущества молодости в практическом опыте человека).
«Диалог» оценок этического и рационалистического характера проявляется и в содержании и восприятии рекламных текстов. Так, например, китайских студентов-филологов удивляет тот факт, что по российскому телевидению часто показывают американскую рекламу, где внук, стремясь съесть побольше чипсов «Лэйс», подкладывает под кресло-качалку старенькому дедушке тапочки, чтобы тот не смог дотянуться до пакета с чипсами: и в результате весь пакет достается счастливому внуку-победителю. Ценностных ориентаций авторов этой рекламы китайцы не принимают. Они продолжают читать своим детям старые сказки, например, о том, как в теплую летнюю ночь маленький сынишка снимает с себя одеяло и лежит, не двигаясь, чтобы не спугнуть комаров, кусающих его, чтобы как можно меньше комариных укусов досталось родителям и… старенькому дедушке.
Таким образом, небольшой сдвиг в оценочном содержании лексем молодящийся и молодиться свидетельствует не только о движении лексем по оценочной шкале, но и об определенной перестройке ценностных ориентаций младшего поколения представителей русской культуры, ослабляющей «духовные скрепы» поколений.
Среди культурных универсалий особое место занимает отношение к деятельности. Культурологи выделяют три основных вида человеческой деятельности: бытие (ценность целостного проживания каждой минуты жизни), становление (ценность собственного нравственного совершенствования), делание (ценность действия ради действия). Таким образом, с точки зрения отношения к деятельности различным культурам присуща направленность на тот или иной ее вид. Ценностные ориентации носителей русской лингвокультуры в большей степени связаны не с деланием , а со становлением , т.е. не с деятельностью ради деятельности, а с нравственной значимостью того или иного действия.
При характеристике человека с точки зрения его отношения к деятельности в русском языке обычно используются лексемы деятельный, активный, энергичный. В толковых словарях русского языка представлена широкая смысловая сочетаемость лексем активный и энергичный, которая демонстрирует их включенность не только в общественную, социальную сферу, но и в сферу, связанную с физическим складом, темпераментом, образом жизни человека. Например, человек, уделяющий много времени спорту, может получить характеристику активный или энергичный, но не совсем точно будет назвать его деятельным. Таким образом, в понятие деятельности, а соответственно и деятеля, деятельного человека в русском языке включается дополнительный семантический компонент, связанный с социальной обусловленностью действия (Ср., например, в «Словаре русского языка» (МАС): деятель – лицо, проявившее себя в какой-нибудь общественной деятельности).
В английском языке лексеме «деятельность» соответствуют слова «activity» и «work», а прилагательное «деятельный» переводится как «active», «energetic» (активный, энергичный), однако, как уже было отмечено выше, в русском языке словосочетание «деятельный человек» не сов- сем тождественно словосочетаниям «активный, энергичный человек», поскольку включает обязательный компонент социальной обусловленности действия.
В пространстве ценностной иерархии русской культуры, любая социально значимая характеристика попадает в зону действия нравственного идеала и, соответственно, оценки этического характера. Ввиду этого в русском сознании сам феномен деятельности, для того чтобы соответствовать высокой нравственной оценке, получает много различных ограничений. Особенности национального ценностного отношения к деятельности эксплицирует неодобрительная оценка, содержащаяся во многих словах русского языка, отражающих различные аспекты и мотивы деятельности, например, делец (человек, который ловко ведет свои дела, не стесняясь в средствах для достижения своих целей), деляга (человек узко деловой, озабоченный главным образом непосредственной ближайшей выгодой), корыстный человек (человек, думающий прежде всего о материальной выгоде как результате того или иного дела), алчный человек (человек, все жизненные интересы и деятельность которого направлены на постоянное приобретательство) и др.).
Общество
Представителям иных культур, особенно тех, которые в значительной степени ориентированы на другой вид деятельности, нелегко воспринять особенности оценки, отраженные в русском языке, а именно: осуществляя деятельность любого характера, человек должен думать о средствах (ср. делец ), не должен ловчить, хитрить (ср. делец ), человек не должен быть узко деловым, направленным только на ближайшие цели (ср. деляга ), неодобрительно оценивается и материальная выгода как единственный результат деятельности (ср. корысть ), деятельность не должна быть мелочной, суетной, а соотноситься с чем-то большим, чем каждодневные дела (ср. суета ), и совсем плохо, если приобретательство, выгода становятся основой мировоззрения (ср. алчность ).
Однако, согласно данным современных словарей, указывающих на частотность употребления лексики, а также электронных корпусов текстов (например, Национального корпуса русского языка), в самые последние годы перечисленные оценочные лексемы не являются столь востребованными в языковом сознании носителей русского языка. Их частотность в употреблении значительно уменьшилась не только в сравнении с текстами классической рус-
Список литературы «Духовные скрепы» российского общества в зеркале языковой оценки
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Событие. Оценка. Факт/Отв. ред. Г.В.Степанов. -М.: Наука, 1988. -338 с.
- Бердяев Н.А. О назначении человека. -М.: Республика, 1993. -383 с.
- Васильева Г.М. Лингвокультурологические основания изменения языковой оценки//Мир русского слова. -2012? № 1. -С. 22-25.
- Выжлецов Г.П. Аксиология культуры: монография. -СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. -152 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. -М.: Наука, 1987. -263 с.
- Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. -М.: Политиздат, 1991. -368 с.
- Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. -М.: Мысль, 1983. -284 с.
- Скляревская Г.Н. К вопросу о прагматической информации в толковом словаре//Лингвистическая прагматика в словаре: сб. ст./Под ред. Г.Н. Скляревской -СПб.: Ин-т лингвистических исследований РАН, 1997. -С. 6-13.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Изд-во политической литературы, 1992. -544 с.
- Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты: монография. -М.: Наука, 1996. -288 с.
- Франк С.Л. Духовные основы общества. -М.: Республика, 1992. -510 с.