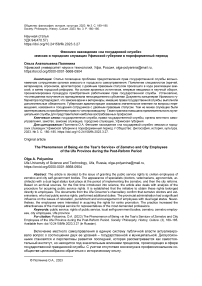Феномен нахождения «на государевой службе» земских и городских служащих Уфимской губернии в пореформенный период
Автор: Полянина Ольга Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме предоставления прав государственной службы вольнонаемным сотрудникам органов земского и городского самоуправления. Появление специалистов (врачей, ветеринаров, агрономов, архитекторов) с двойным правовым статусом произошло в ходе реализации земской, а затем городской реформы. На основе архивных источников, впервые вводимых в научный оборот, проанализирована процедура приобретения работниками прав государственной службы. Установлено, что инициатива получения их принадлежала непосредственно субъектам. Документы канцелярии Уфимского губернатора подтверждают, что земские врачи и ветеринары, имевшие права государственной службы, выполняли дополнительные обязанности. Губернская администрация оказывала значительное влияние на вопросы перемещения, наказания и поощрения сотрудников с двойным правовым статусом. Тем не менее служащие были заинтересованы в приобретении прав по чинопроизводству. Такая практика повышала привлекательность муниципальной службы для представителей наиболее востребованных профессий.
Государственная служба, права государственной службы, органы местного самоуправления, земство, земские служащие, городские служащие, уфимская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/149142224
IDR: 149142224 | УДК: 94(470.57) | DOI: 10.24158/fik.2023.3.27
Текст научной статьи Феномен нахождения «на государевой службе» земских и городских служащих Уфимской губернии в пореформенный период
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия, ,
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia, ,
Одной из отличительных черт дореволюционной модели местного самоуправления являлось наличие служащих с двойным правовым статусом. Некоторые вольнонаемные сотрудники земских и городских управ обладали правами государственной службы. В статье предпринята попытка изучить данную категорию работников на материалах Уфимской губернии.
Тема предоставления прав государственной службы вольнонаемным сотрудникам органов земского и городского самоуправления не получила освещения в научной литературе. Либеральная историография дореволюционного периода исходила из тезиса о том, что все успехи органов местного самоуправления были достигнуты благодаря «третьему элементу» и вопреки элементу цензовому. При таком подходе именно служащие признавались «настоящими хозяевами» земского дела. Для данного круга ученых главное отличие между государственной и общественной (земско-городской) службой находилось в морально-этической плоскости. Известный земский деятель Л.Д. Брюха-тов подчеркивал, что «третий элемент» «коренным образом» отличается от чиновников, поскольку не обладает такими ценными качествами, как «покладистость в отношении своего начальства» (Брю-хатов, 1914: 186–192). Городской голова Баку А.И. Новиков посвятил свои «Записки» «сослуживцам третьего элемента: людям честным, прямым, бескомпромиссным, добросовестным». При подборе сотрудников Новиков отдавал предпочтение тем, «кто не весь ушел в добывание рублей»1.
Наиболее полный анализ юридического положения муниципальных (в частности, земских) служащих принадлежит правоведу М.Д. Загряцкову. По его мнению, изучение земского административного права показывало, что в начале XX в. в России «развивался своеобразный институт земской службы». Анализируя механизм назначения служащих, М.Д. Загряцков пришел к выводу о формировании «нового института публичного права, отличного от договора частного найма» (Загряцков, 1914: 28–30). Исследователь отмечал определенное типологическое сходство правовых норм, установленных для государственных и муниципальных служащих, но проблему наделения представителей «третьего элемента» правами по чинопроизводству он не затрагивал (Загряцков, 1914: 33).
В современной историографии данная тема рассматривалась применительно только к одной категории служащих – земским врачам. Как правило, ученые ограничивались указанием на то, что при сохранении или получении прав государственной службы земский врач переходил «в подчинение» губернского правления (Краснобородько, 2016). Е.М. Смирнова приводит оценку доли таких специалистов, имевших права государственной службы, и описывает детально механизм двойного подчинения (Смирнова, 2021: 9–10). Основные этапы процедуры присвоения прав государственной службы отмечены в публикациях К.Е. Балдина (Балдин, 2021: 34–36). Работы, в которых исследуется юридическая природа понятия «право государственной службы», являются единичными и не затрагивают интересующую нас тему (Еремина, Проценко, 2017: 108).
Основу источниковой базы составили формулярные списки, где фиксировались личные данные и сведения о прохождении службы. Переписка между земскими (городскими) управами, губернским правлением и министерствами позволяет проанализировать процесс приобретения прав государственной службы, а также полномочия губернской администрации по отношению к служащим с двойным статусом. Наибольшее количество источников хранится в фонде Уфимского губернского правления (И-9) и фонде Канцелярии Уфимского гражданского губернатора (И-11) Национального архива Республики Башкортостан. Отдельные формулярные списки сохранились в фонде Уфимской губернской земской управы (И-132).
Элементы правового статуса земских и городских служащих были «раздроблены между различными юридическими памятниками» (Загряцков, 1914: 28) на протяжении всего пореформенного периода. В нормативно-правовых актах, регулирующих сферу местного самоуправления, термин «служба» использовался прежде всего по отношению к выборным должностным лицам. Так, в Городовом положении 1870 г. к должностям «городской общественной службы» относились: городской голова, члены городской управы и городской секретарь. Положение 1892 г. дополнило этот перечень, включив в него товарищей и помощников городского головы2.
Вольнонаемные служащие, по сути, оставались фигурой умолчания. Земское положение 1864 г. содержало только упоминание о том, что «подведомственные земским управам служащие лица» «подвергаются ответственности одинаково с лицами, состоящими на государственной службе»3. Городовое положение 1870 г. подчеркивало ответственность «лиц, служащих в городском общественном управлении, в том числе и по найму…»4.
Осуществление земской реформы требовало законодательного урегулирования ситуаций, характерных для переходного периода. В мае 1864 г. были утверждены «Правила о порядке приведения в действие Положения о земских учреждениях». В соответствии с ними все «заведения, состоявшие в заведывании Приказов общественного призрения», передавались «в ведомство земских учреждений». Лица, служившие в таких заведениях, и лица, «определяемые вновь на те же должности», пользовались правами государственной службы1. Преимущества предоставлялись только по чинопроизводству и шитью на мундире и не включали права на получение пенсии и пособия из средств казначейства.
Аналогичную норму содержало Городовое положение 1870 г. Существовавшие на тот момент «должности городских архитекторов причислялись к составу городских общественных управлений». Думы также получили право самостоятельно учреждать «таковые должности с распространением на оныя всех прав службы, городским архитекторам присвоенных»2.
Заметный рост численности земских и городских служащих, происходивший в 1870–1880-е гг., требовал трансформации нормативной базы. В тексты Земского и Городового положений, утвержденных Александром III, были включены почти идентичные статьи, допускавшие возможность приглашения лиц «для исполнения обязанностей, которые, по свойству своему, требуют особых познаний и подготовки» (ст. 105)3. В контексте рассматриваемой темы важно подчеркнуть, что Земское положение 1890 г. и Городовое положение 1892 г. выделили две категории наемных служащих:
-
1) лица, которые не занимали выборных должностей, но пользовались правами государственной службы. Их назначение и перемещение регулировались «Уставом о службе по определению от Правительства»4.
-
2) лица, которые не занимали выборных должностей и не пользовались правами государственной службы. При приглашении таких сотрудников действовал порядок, установленный «Общим губернским учреждением»5.
Важную группу нормативных документов составляли источники медицинского права. Порядок «определения медицинских чинов к должностям» регулировался «Уставом врачебным». Редакция его от 1905 г. уточняла, какие классы присваивались персоналу земских психиатрических больниц (заведующему – шестой класс, ординатору – восьмой и т.д.)6. Положения данного документа подкреплялись нормами «Устава лечебных заведений». Медицинские учреждения, которыми заведовали органы самоуправления, были наряду с другими отнесены к «государственным лечебным заведениям» и находились в ведении Министерства внутренних дел. При этом делалась оговорка, что составление штатного расписания и утверждение окладов служащих осуществлялось земским собранием либо городской думой. На штатные должности по административно-хозяйственной части могли быть назначены лица, которые по происхождению или образованию не имели права поступления на государственную службу. В этом случае они не пользовались правами по чинопроизводству и мундиру7.
Процедура предоставления прав государственной службы по чинопроизводству состояла из нескольких этапов. Претендент должен был обратиться в земскую (или городскую) управу с ходатайством, где заявлял о своем желании пользоваться данными правами. Председатель управы (или городской голова) составлял представление на имя губернатора. После получения его согласия представление направлялось в министерство, к которому служащий был причислен. В случае с врачами или ветеринарами речь шла, как правило, о структурном подразделении Министерства внутренних дел (Ветеринарном комитете, Главном военно-медицинском управлении).
В соответствии с требованиями «Свода уставов о службе гражданской» к прошению прилагалось метрическое свидетельство и все документы, являвшиеся «удостоверением в звании и в праве на вступление в службу» (формулярный список, диплом об образовании, свидетельство об отбывании воинской повинности и т.д.)8. Через несколько месяцев из министерства поступал ответ, где указывалась дата, с которой следовало отсчитывать так называемое «старшинство» по отношению к определенному чину9.
Примером успешного продвижения в чинах является карьера выпускника Московского императорского университета лекаря Ивана Сидоровича Пономарева. Проработав несколько лет в земстве Черниговской губернии, в 1902 г. он стал врачом земской больницы Златоустовского уезда «с правами правительственной службы»1. Работая в данной должности, Пономарев был последовательно произведен в чин титулярного советника, коллежского асессора, надворного, а затем коллежского советника. В 1912 г. был составлен обновленный формулярный список Поно-марева2. Еще через год лекарь перешел в Пермское земство, и перед отправкой формулярного списка в канцелярию пермского губернатора Златоустовская управа просила Врачебное отделение внести уточненные данные о наградах и отпусках Пономарева3.
Причиной затягивания бюрократической переписки могла стать небрежность со стороны органов муниципальной власти. В результате губернское правление было вынуждено возвращать представление в управу. Так, среди сопроводительных документов врача Бирского уезда Л.В. Фальков-ского отсутствовало «ходатайство самого земства», а в других документах – заявление претендента4.
Права государственной службы по чинопроизводству сохранялись за некоторыми агрономами, одним из которых был Александр Иванович Книзе. После окончания Петровской сельскохозяйственной академии он был причислен к Департаменту земледелия, сменил несколько мест работы. В 1898 г. откомандирован на должность Уфимского губернского земского агронома. В 1902 г. состоял в чине коллежского секретаря5.
Самой малочисленной категорией служащих, обладавших двойным правовым статусом, являлись городские архитекторы. В Уфимской губернии едва ли не единственным оказался Петр Григорьевич Ланевский. В 1875 г. он окончил Институт инженеров путей сообщения, получив право производства строительных работ и право на чин коллежского секретаря в случае поступления на государственную службу. Вскоре Ланевский «был причислен» к Министерству путей сообщения и оттуда уже «увольнялся» в Общество Маршанско-Сызранской, Харьковско-Николаевской и других железных дорог. При этом инженер продолжал числиться «по спискам министерства» и регулярно получал новый чин, став в 1890 г. надворным советником. В 1891–1892 гг. Ланевский являлся членом Стерлитамакской уездной земской управы, что потребовало его «откомандирования в распоряжение Министерства внутренних дел»6.
Весной 1895 г. Ланевский обратился в Уфимскую городскую управу с просьбой о назначении на должность городского архитектора. Уфимский голова А.А. Маллеев подал соответствующее представление губернатору, началась достаточно длительная процедура согласования. Окончательный ответ от Министерства путей сообщения был получен в июле 1895 г.: инженер Петр Григорьевич Ланевский «уволен на три года в распоряжение Уфимской городской управы с зачислением по МПС»7.
В марте следующего года Уфимская городская управа обратилась в Канцелярию губернатора с просьбой сделать распоряжение о представлении Ланевского к производству в следующий чин. К представлению был приложен «краткий список о службе» и формулярный список архитектора. Однако у городской управы не хватило опыта подготовки таких документов: формулярный список оказался составлен неправильно. Уфимской думе пришлось сделать необходимые запросы и затем направить пакет документов повторно. В итоге производство Ланевского в чин коллежского советника состоялось только в декабре 1897 г.8
По мере увеличения численности «третьего элемента» росла и необходимость уточнения правовых норм, закрепленных в Земском и Городовом положениях. В 1907–1908 гг. Правительствующий Сенат несколько раз возвращался к вопросу о том, подчиняются ли земские врачи губернским врачебным правлениям. В его разъяснениях отмечалось, что земские врачи «не поименованы в перечне подчиненных врачебным отделениям медицинских чинов и составляют особую категорию лиц, приглашаемых земскими учреждениями». Врачебному отделению они подчинены только в порядке надзора. Права государственной службы предоставлены лишь по отношению к чинопроизводству и «не касаются содержания и самых должностей, которые врачи занимают по вольному найму на основании договорных соглашений с земскими управами»9.
Несмотря на разъяснения Сената, на практике контроль со стороны врачебного отделения губернского правления оставался достаточно ощутимым. Врачей нередко привлекали для исполнения различных обязанностей правительственной службы. По отношению к ветеринарам аналогичную функцию выполняло ветеринарное отделение губернского правления. Ветеринар
Аполлинарий Мартинович Ксенжопольский поступил в Уфимское губернское земство в сентябре 1890 г. Согласно его желанию ему были предоставлены права государственной службы по чинопроизводству. Работая в земстве, Ксенжопольский по предписанию губернатора параллельно выполнял обязанности старшего губернского ветеринарного врача сначала с апреля по сентябрь 1891 г., а затем – в июне-июле 1892 г. В 1891 г. в число этих обязанностей входило почти ежедневное освидетельствование пригоняемого в Уфу скота, а также кожи, шерсти и прочих животных продуктов. Ветеринару приходилось постоянно ездить на пароходную пристань и железнодорожную станцию. В 1892 г. в связи с эпидемией холеры к перечисленным обязанностям добавился осмотр продуктов на рынках1. Губернская администрация высоко оценила деятельность Ксенжопольского: по инициативе врачебного инспектора ему была объявлена благодарность2.
Отчеты ветеринарных отделений содержат упоминания и о других специалистах, совмещавших работу в качестве губернского ветеринарного врача и земскую службу3. Аналогичные случаи встречаются среди медицинского персонала. Коллежский советник Анатолий Львович Нагибин работал непосредственно во врачебном отделении губернского правления, занимая должность помощника инспек-тора.4 Одновременно с этим он оставался ординатором губернской земской соматической больницы и преподавателем фельдшерско-акушерской школы Уфимского губернского земства5.
Анализ делопроизводственной документации подтверждает, что по отношению к служащим, обладавшим двойным правовым статусом, органы губернской администрации выполняли достаточно разнообразные кадровые функции. В 1898 г. Белебеевская городская управа впервые приняла на службу «особого» врача, им стал Николай Алексеевич Соломаха. Ввиду «незначительности доходов» уездного центра Соломаха получал часть жалования из городского бюджета, а часть – из средств Казенной палаты. При этом он исполнял обязанности городского врача, врача тюремной больницы, заведующего приемным покоем при казенном винном складе.
Через некоторое время между Соломахой и городским старостой А.Л. Напалковым произошла ссора. Конфликтующие стороны составляли «партии» против друг друга, началась война компроматов… Губернский врачебный инспектор, убедившись, что в Белебее создалась «ненормальная ситуация», обратился к Соломахе с письмом, где предлагал перевести его в Златоуст6. К тому времени врач получил за выслугу лет чин коллежского асессора. Соломаха сначала ответил, что переезд для него равносилен разорению, но затем всё же сменил место жительства7.
Иногда Министерство внутренних дел осуществляло непосредственное вмешательство в кадровую политику органов региональной и муниципальной власти. В ноябре 1890 г. в Уфимское губернское правление поступила телеграмма министра внутренних дел И.Н. Дурново. Министр просил откомандировать ветеринара Баскакова в Терскую область для проведения противочумных мероприятий. Губернскому правлению предписывалось выдать ему «на прогоны из свободных сумм». Феоктист Васильевич Баскаков был принят в Уфимское земство менее чем за год до этого и работал в Белебеевском уезде. «Вследствие телеграммы МВД» Баскакова вызвали во врачебное отделение, где ему были выданы деньги на проезд к новому месту службы8.
Вопрос о трактовке существовавших юридических норм актуализировался в годы Первой мировой войны. В 1916 г. подписчики журнала «Городское дело» неоднократно спрашивали, приравнены ли земские и городские врачи к государственным служащим «в смысле сохранения содержания» после призыва в действующую армию. Редакция разъясняла читателям, что преимущества государственной службы, присвоенные врачам, находившимся на муниципальной службе, не распространялись на получаемое ими из земско-городских средств содержание, так как оно назначалось думой или земским собранием. Следовательно, сохранение содержания за врачом, призванным на военную службу, а также размер помощи мобилизованным зависели от усмотрения органов местного самоуправления9.
Среди муниципальных деятелей также сохранялась убежденность в обособленности общественной службы. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного так называемой «городской группой» Государственной Думы в самом начале 1917 г. До начала революционных событий ответы успели прислать 63 города, только два из которых «нашли нужным предоставить права государственной службы всем городским служащим по вольному найму»10.
Таким образом, появление служащих с двойным правовым статусом было вызвано особенностями реализации земской, а затем городской реформы, в частности, передачей учреждений Приказа общественного призрения в ведение новых органов власти. Сохранение данных норм на протяжении всей полувековой истории земско-городского самоуправления не следует связывать только с инерционностью пореформенного законодательства. Права государственной службы присваивались представителям наиболее востребованных профессий: врачам, ветеринарам, агрономам, архитекторам. Основное «преимущество правительственной службы» состояло в чинопроизводстве за выслугу лет, то есть в сохранении стажа.
Анализ формулярных списков, а также деловой переписки между губернской канцелярией и управами подтверждает, что муниципальные служащие были заинтересованы в получении данного права, несмотря на то, что это приводило к появлению дополнительных обязанностей. Как следствие, органы местного самоуправления получали возможность проводить более гибкую кадровую политику, приглашая квалифицированных специалистов. О достаточной эффективности такого подхода свидетельствует то, что аналогичная норма (взаимозачет стажа государственной гражданской и муниципальной службы) действует в современном законодательстве Российской Федерации1.
Список литературы Феномен нахождения «на государевой службе» земских и городских служащих Уфимской губернии в пореформенный период
- Балдин К.Е. Служебное положение медицинской интеллигенции Иваново-Вознесенска на рубеже XIX-XX вв. // Интеллигенция и мир. 2021. № 1. С. 30-49.
- Брюхатов Л.Д. Значение "третьего элемента" в жизни земства // Юбилейный земский сборник. 1864-1914. СПб., 1914. С. 186-205.
- Еремина Т.И., Проценко Е.Д. К проблеме определения понятия "право государственной службы" в правовой науке Российской империи // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 108-116. Загряцков М.Д. Земская служба и третий элемент. Пг., 1914. 36 с.
- Краснобородько К.А. Медицинские кадры Курской губернии в переходный период: 1860-1870-е гг. // Краеведческие записки. Вып. 2. Курск, 2016. С. 33-38.
- Смирнова Е.М. Врач и земство // Новый исторический вестник. 2021. № 1 (67). С. 6-23.