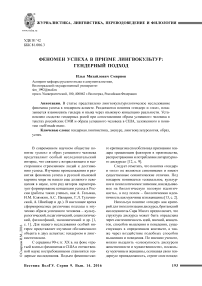Феномен успеха в призме лингвокультур: гендерный подход
Автор: Смирнов Илья Михайлович
Рубрика: Журналистика, лингвистика, переводоведение и филология: ответы молодых ученых на вызовы глобализации
Статья в выпуске: 14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено лингвокультурологическое исследование феномена успеха в гендерном аспекте. Разделяются понятия «гендер» и «пол», показывается взаимосвязь гендера и языка через языковую концепцию реальности. Установлено сходство гендерных ролей при сопоставлении образа успешного человека в текстах российских СМИ и образа успешного человека в США, заложенного в понятии «self-made man».
Гендерная лингвистика, дискурс, лингвокультурология, образ, успех
Короткий адрес: https://sciup.org/14968022
IDR: 14968022 | УДК: 81’42
Текст научной статьи Феномен успеха в призме лингвокультур: гендерный подход
В современном научном обществе понятие «успех» и образ успешного человека представляют особый исследовательский интерес, что связано с возрастающим и всесторонним стремлением людей к достижению успеха. Изучение происхождения и развития феномена успеха в русской языковой картине мира не нашло еще должного освещения в науке, хотя ряд авторов характеризует формирование концепции успеха в России (работы таких ученых, как А. Гельман, И.М. Клямкин, А.С. Панарин, Г.Л. Тульчин-ский, А. Швейцер и др.). В настоящее время сформировались различные подходы к изучению образа успешного человека – культурологический, педагогический, социологический, философский, экономический и др. [1, с. 1]. Для нашего исследования особый интерес представляет изучение обозначенного объекта в двух аспектах: гендерном и лингвистическом.
С середины 90-х гг. ХХ в. на фоне «третьей волны» феминизма в США в отечественной науке востребованными становятся гендерные исследования. Подъем феминистско- го критицизма способствовал признанию гендера «решающим фактором в производстве, распространении и потреблении литературного дискурса» [12, c. 9].
Следует отметить, что понятия «гендер» и «пол» не являются синонимами и имеют существенные семантические отличия. Под гендером понимается «социальное, культурное и психологическое значение, накладываемое на биологическую половую идентичность», а под полом – биологическая идентичность как мужчины или женщины [13, c. 2].
Используя понятие «гендер» как критерий для типологизации дискурса, британский исследователь Сара Миллз предполагает, что структура дискурса может быть определена через систематичность идей, мнений, концептов, способов мышления и поведения, существующих в определенном контексте, а также через воздействие подобных способов мышления и поведения. По мнению ученого, можно выделить «совокупность дискурсов женственности и мужественности», поскольку мужчины и женщины, осознавая свою гендерную принадлежность, строят свое поведе-
ЖУРНАЛИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА, ние на основании определенных параметров [11, c. 17].
Особый интерес представляет подход с позиций языка, подразумевающий гендериза-цию самих слов [4, c. 18]. Передача идей происходит посредством связи отдельных слов с тем или иным полом, имплицитно или эксплицитно выражая, что в культуре обозначено как мужское или женское. Анализ слов, используемых для описания мужчин и женщин, помогает обнаружить доминантные взгляды относительно того, чему свойственна мужественность и женственность. Женщины довольно часто описываются словами, ассоциируемыми с заботой, слабостью и манипулятивной сексуальностью (например, tease – дразнить, кокетничать), а мужчины – словами, связанными с конкуренцией в высоко ценимых сферах и со злоупотреблением властью (например, brute – брутальный, грубый, животный) [9, c. 24]. Например, до 1979 г. ураганы именовали лишь женскими именами, поскольку тропические циклоны, как и женщины, представлялись как непредсказуемые, переменчивые и разрушительные.
Применение гендерного подхода в исследовании подразумевает учет в равной степени как женщин, так и мужчин. Развитие гендерной теории началось в начале 80-х гг. XX в. в рамках западной феминисткой мысли в таких областях, как антропология, история, психология и философия, что означало собой переход от исследований, направленных на женскую проблематику 70-х гг. XX в. (гинокритика, женская история, женская психология), к изучению гендерных отношений, включающих как женщин, так и мужчин.
Более того, гендер – это не только вопрос различия, предполагающий разделение и равенство полов, но и вопрос власти, затрагивающий историю гендерных отношений, в частности гендерную асимметрию и доминирование мужчин в обществе. Во всех культурах соблюдаются гендерные отличия, и как только какая-либо черта поведения ассоциируется с определенным полом, представители другого пола стараются элиминировать ее. Именно этот факт лег в основу концепции генде-ризма – культурно и социально обусловленных и воспроизводимых обществом различий в поведении полов. Неравноправный статус по- лов, в той или иной степени присутствующий в любой постпатриархальной культуре, позволяет опираться на концепцию власти и в лингвистическом исследовании [2, с. 20].
Британский исследователь Норман Фэр-кло в своем труде «Язык и власть» признает необходимым более глубокое осознание связи языка и власти, в частности, как язык может способствовать доминированию одних людей над другими [7, c. 4].
В рамках лингвистических исследований предполагается, что «каждая культура имеет уникальное отображение в языке», являющимся ее основным ресурсом [3, c. 168]. Когда язык систематически игнорирует женщин или воспринимает их как беспомощных, это естественным образом влияет на образ мышления людей [14, c. 170].
Таким образом, лингвистический анализ позволяет установить, каким образом представлено гендерное неравенство в языке; например, это проявляется особенно ярко, когда речь идет об успехе. Стоит отметить, что женщины и мужчины сами конструируют чувство собственного «я» в языке, следовательно, анализ текстов, отражающих гендерные различия, позволяет нам отследить варианты, доступные субъектам при построении своих социальных ролей и позиций [10, c. 2].
Данное утверждение преобладает во всех направлениях постмодернистской мысли, которые признают языковую концепцию реальности, гласящую, что воспринимаемая нами реальность – лингвистически и социально сконструированный феномен. В итоге языковые формы становятся единственным инструментом познания мира, следовательно, человеческие представления о мире не способны отразить реальность, существующую вне пределов языка, и они могут соотноситься лишь с другими языковыми выражениями.
Иными словами, сознание индивида ставится в зависимость от стереотипов своего языка: в сознании каждого хранится та или иная совокупность текстов, определяющих отношение человека к действительности и опосредуемых дискурсивной практикой. Из этого следует, что язык приобретает важнейшее значение, а лингвистика – статус одной из центральных наук, поскольку сознание индивида уподобляется тексту.
Феминистский аспект не обошел стороной и постмодернизм, существенную роль в идеологии которого занимают гендерные вопросы, в частности доминирование мужчин в обществе. Как отмечал французский философ Жак Деррида, взгляды на мир и система ценностей непосредственно связаны с позицией «европейских белых мужчин». Сознание современного человека, вне зависимости от его половой принадлежности, заполнено идеями мужской идеологии с приоритетом мужской логики и рациональности, а также объектного отношения к женщине. Известные книги «Второй пол» Симоны де Бовуар и «Воля к знанию» Мишеля Фуко лишь способствовали распространению этой идеи.
Гендерные исследования достаточно востребованы в лингвистике при изучении различных феноменов. Нам представляется, что ценный материал для дальнейшего развития данного направления может дать изучение феномена успеха, репрезентированного в той или иной лингвокультуре.
В США, считающихся родиной культа «успеха» со времен появления пуританизма в Северной Америке, изначально сложился маскулинный образ успешного человека, что можно наглядно продемонстрировать при описании успешности через понятие «деньги» как одного из основополагающих условий достижения успеха.
Социологические, экономические и культурологические исследования показывают, что денежная социализация и символические функции денег в западной культуре находятся под сильным воздействием гендера. Как результат тех значений и интенций, что были вложены в данное понятие доминирующим мужским обществом – банкирами, биржевыми маклерами, членами Совета управляющих Федеральной резервной системы, чиновниками Международного валютного фонда и т. д., – понятие денег все еще передает идею гендера и надолго сохраняет существующую гендерную иерархию; более того, распространение глобального капитализма служит средством экспорта западных гендерных ролей на восточные страны [5, c. 1].
В 1832 г. Генри Клей, американский политический и государственный деятель, впервые употребил понятие «self-made man»
(букв.: «человек, сделавший себя сам»), которое мгновенно начали использовать в рекламных текстах и биографиях. Как отмечает Майкл Киммел, понятие «breadwinner» (кормилец; тот, кто добывает хлеб) вошло в оборот между 1810 и 1820 гг. и означало мужскую роль добытчика в семье, а затем стало безошибочной определяющей мужского успеха в американской культуре [8, c. 27]. Ценность человека, который сделал себя сам («self-made man») была определена на рынке, где царила жажда наживы и конкуренция, и была выражена следующим образом: «Деньги – это привычная мера всех вещей» [8, c. 20]. Провозглашенный Алексисом де Токвилем индивидуализм поставил окончательную точку в понимании мужского успеха как личного богатства и всеобщего признания. В итоге понятие «self-made man», носящее маскулинный характер, стало ключевой составляющей достижения успеха в американской культуре.
Вместе с тем, по замечанию Стефани Кунц, культ «self-made man» требовал культа «true woman» (верной женщины) [6, c. 53]. Финансовая зависимость женщин от их мужей, приобретавших контроль над имуществом жен после женитьбы, фактически провозглашала их статус как собственности мужчин. Господствующая гендерная система XIX в. разделила мужчин и женщин пространственно, социально и морально, определив «мужские сферы» (бизнес, финансы, закон и политика) и «женские сферы» (мораль, культура, альтруизм и привязанность) [5, c. 34].
Итак, первоначально образ успешного человека как «self-made man»был закреплен исключительно за мужчинами европейского происхождения. Деньги и доминирование были определяющими характеристиками успешных мужчин. Женщинам путь к достижению успеха был фактически закрыт: они были хранительницами домашнего очага и ассоциировались с моралью, культурой, альтруизмом и привязанностью, то есть с исключительно духовными понятиями.
Как уже было отмечено, заложенные в понятие денег гендерные роли распространяются с Запада через глобализацию капитализма. Происходит ли этот процесс в России?
Чтобы ответить на данный вопрос, был проведен интерпретативный анализ 30 статей российской электронной версии журнала «Cosmopolitan» и 30 статей российской электронной версии журнала «GQ». Отбор статей проводился по представленности в тексте лексемы «успешный» без учета морфологии. Выбор данных изданий обусловлен их наибольшей популярностью среди женской и мужской половины населения России (согласно рейтингу Рамблер.ТОП100, основанному на индексе популярности).
По результатам проведенного анализа, у спешная женщина прилагает усилия для достижения внутренней гармонии, уверена в себе, умеет налаживать контакты с другими людьми и позитивно воспринимает окружающий мир. В начале своей карьеры она соглашается на любую работу. Успешная женщина преодолевает свои страхи, любит свою работу и усердно трудится, не сдается в случае провала и развивает себя. Она мечтает и черпает вдохновение из окружающего мира, ставит четкие цели на будущее, понимая, что деньги – это не главное. (Например: «Какую бы новую возможность ты ни получила, соглашайся»; «Деньги – не главное»; «Берись за все!»; «Улыбайся, это ключ к успеху»; «в гармонии с собой»; «внимательнее относись к своему внутреннему состоянию»; «не позволяй негативным мыслям властвовать» ).
Успешный мужчина – это заслуживающий уважения и популярный человек, получающий множество наград за свою деятельность и известный не только в России, но и за рубежом. Он настроен на победу и превосходство, дружит с известными личностями, самосовершенствуется, создает более удачные проекты по сравнению с аналогичными проектами конкурентов и удачно вкладывает заработанные деньги. При этом успешный мужчина пренебрегает своей известностью и упоминанием в СМИ, игнорируя негативное мнение окружающих, если таковое присутствует. (Например: «стал самым популярным»; «регулярно получают награды»; «Успех приходит к тем, кто умеет игнорировать негативные мнения»; «продолжает экспансию»; «готовятся покорять Штаты» ).
Таким образом, при сопоставлении образа успешного мужчины в текстах российс- ких СМИ с описанным выше образом успешного человека в США с учетом формулы «self-made man» можно заметить определенное сходство: признание и стремление к победе, решающая роль денег. Рассматривая образ успешной женщины в проанализированных текстах российских СМИ и образ американской женщины XIX в., мы также можем проследить определенное сходство, а именно духовную ориентацию женщин. Конечно, возможности современных женщин для самореализации намного выше, но направленность российских женщин на душевную гармонию перекликается с американской моделью. Можно предположить, что российская культура импортировала гендерные роли, распространяемые Западом, на уровне языка.
Гендерный подход представляется перспективным в процессе лингвистического анализа текстов в рамках дискурса успешности, выделяемого в последнее время рядом исследователей (И.Н. Бельцова, В.Н. Мерзлякова и др.). Проведение лингвокультурологического гендерного исследования в рамках данного дискурса позволит обозначить культурноспецифические и общие черты образов успешной женщины и успешного мужчины как на кросскультурном, так и интракультурном на уровнях.
Список литературы Феномен успеха в призме лингвокультур: гендерный подход
- Атюнина, В. С. Образ успешного человека в семантическом пространстве личности/В. С. Атюнина. -Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. -169 с.
- Кирилина, А. В. Философская база и методология гендерных исследований в применении к российской лингвистике/А. В. Кириллина//Гендерный фактор в языке и коммуникации. -Вып. 446. -М., 1999. -С. 14-21.
- Смирнов, И. М. Концепты в дискурсивной парадигме: интракультурная и кросскультурная корреляция/И. М. Смирнов//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9, Исследования молодых ученых. -2015. -Вып. 13. -С. 166-170.
- Baron, D. Grammar and Gender/D. Baron. -New Haven: Yale University Press, 1986. -260 p.
- Boesenberg, E. Money and Gender in the American Novel, 1850-2000/E. Boesenberg. -Heidelberg: Winter, 2010. -485 p.
- Coontz, S. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap/S. Coontz. -N. Y.: Basic Books, 1992. -432 p.
- Fairclough, N. Language and Power/N. Fairclough. -N. Y.: Longman Inc., 1989. -320 p.
- Kimmel, M. S. Manhood in America: A Cultural History/M. S. Kimmel. -USA: Free Press, 1996. -544 c.
- Kramer, L. The sociology of gender/L. Kramer. -USA: St Martin’s Press, Inc., 1991. -514 p.
- Mills, S. Discourse/S. Mills. -UK: Taylor & Francis e-Library, 2001. -178 p.
- Mills, S. Feminist Stylistics/S. Mills. -L.; N. Y.: Routledge, 1995. -230 p.
- Ruthven, K. K. Feminist Literary Studies: An Introduction/K. K. Ruthven. -Cambridge: Cambridge U. Press, 1984. -164 p.
- Showalter, E. Speaking of gender/E. Showalter. -USA: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1989. -335 p.
- Silveira, J. Generic Masculine Words and Thinking/J. Silveira//Voices and Words of Women and Men, edited by C. Kramarae. -N. Y.: Oxford University Press, 1980. -P. 165-178.