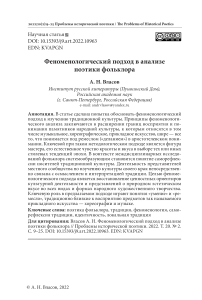Феноменологический подход в анализе поэтики фольклора
Автор: Власов Андрей Николаевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье сделана попытка обосновать феноменологический подход к изучению традиционной культуры. Принципы феноменологического анализа заключаются в расширении границ восприятия и понимания памятников народной культуры, к которым относятся в том числе музыкальное, хореографическое, прикладное искусство, шире - все то, что понимается под ремеслом («деланием») в аристотелевском понимании. Ключевой при таком методологическом подходе является фигура мастера, его естественное чувство красоты и вкуса в выборе тех или иных стилевых тенденций эпохи. В контексте междисциплинарных исследований фольклора системообразующим становится понятие саморефлексии носителей традиционной культуры. Деятельность представителей местного сообщества по изучению культуры своего края непосредственно связана с осмыслением и интерпретацией традиции. Целью феноменологического подхода является восстановление ценностных ориентиров культурной деятельности и представлений о природном эстетическом вкусе во всех видах и формах народного художественного творчества. Ключевую роль в предлагаемом подходе играют понятия «умение» и «ремесло», традиционно близкие к восприятию предметов так называемого прикладного искусства - хореографии и музыке.
Поэтика фольклора, традиция, феноменология, саморефлексия традиции, идентичность, локальная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147237950
IDR: 147237950 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10963
Текст научной статьи Феноменологический подход в анализе поэтики фольклора
Обращение к синхронному «срезу» культуры, лежащему в основе структурно-типологических исследований, все чаще подвергается обоснованной критике. Причина этого — неопределенность временны́ х рамок, в пределах которых состояние культурных традиций условно воспринимается как статичное. Такое положение противоречит постоянному ускорению изменчивости многих параметров этнокультурных систем, составляющему сущность современных адаптационных процессов, стратегии выживания традиционной культуры.
В связи с возрастанием личностной составляющей в народной культуре, проявлением тенденций, свидетельствующих о самоидентификации и саморефлексии ее носителей, все более важным представляется обращение к ментальному миру традиции, выяснение его констант, определение его границ, воплощающих глобальную оппозицию свой / чужой и ее новые формы, отвечающие актуальным этнокультурным процессам. Методология подобных исследований пока не разработана, но очевидно, что такой взгляд на культуру тесно связан с рассмотрением культурных традиций в диахроническом аспекте и требует особых методологических оснований.
При определении ментальных границ традиции исследователям важно иметь четкое представление о самосознании носителей в разные исторические фазы существования местной культуры. В самоопределении информанта и самоидентификации (отождествлении себя с той или иной культурной парадигмой) заложен важнейший механизм памяти традиции и сохранения / изменяемости форм народной культуры. Словом, все то, что включается в понятие «памяти места» (memoria loci) [Власов].
В исследовательском поиске границ традиции своего рода отправной точкой, казалось бы, можно считать ее пространственно-временные координаты. В понятии «память места» значимость приобретают разные формы реализации традиции — вербальная, звуковая, зрительная, бытовая, хозяйственная, ритуальная и т. п.
Таким образом, фонд традиционных знаний является источником для становления местных стилевых особенностей народной культуры, формирования местных художественных школ и ремесел. Эти знания не только определяют границы, общие «параметры» и позволяют более рельефно обозначить особенности местного культурного сознания, самоидентификацию информантов как представителей данной местности и носителей именно местной памяти, но и получают непосредственное выражение в ряде фольклорно-этнографических явлений — в жанровых предпочтениях, в календаре, обрядах жизненного цикла, топонимической системе, народной прозе, ремеслах и прикладном искусстве (см., напр.: [Алексеева]).
Проблема этнокультурных границ в аналитической фольклористике неоднократно возникала в связи с полевыми исследованиями и публикацией фольклорных сборников.
Чрезвычайно важно отметить, что «ресурс» локальной памяти имеет мало общего с тем, что мы понимаем под архаической моделью мировоззрения носителя этнической культуры (хотя внутренне, естественно, сохраняет ее, как и, к примеру, некоторые формы современной городской культуры). В традиции активно функционируют только те жанровые формы и тексты фольклора, которые способны отвечать запросам времени, спросу, массовым вкусам и моде. Поэтому системная и стилевая доминанта такой традиции зависит во многом от внефольклорных факторов и исторически актуальных дискурсивных практик.
Наиболее репрезентативным материалом для решения проблем, связанных с саморефлексией, являются письменные манифестации местной традиции, вплоть до настоящего времени еще недостаточно востребованные в фольклористических исследованиях.
Краткий обзор фольклорно-этнографических материалов, находящихся в местных музеях и фондах, позволяет сделать вывод, что они прочно заняли место артефакта культуры среди других письменных и материальных источников (археологических и этнографических предметов).
Все известные нам формы «саморефлективного диалога личности и культуры» [Князева: 112] способствуют потере аутентичности текстов традиционной культуры и направлены на перекодировку языка фольклора. Поэтому поставленные проблемы изучения письменных манифестаций фольклора внутри определенной культурной традиции не только открывают для исследователей новые возможности ее взаимодействия с другими культурными системами, но и позволяют понять некоторые механизмы ее внутренней перестройки под воздействием различных внешних факторов.
Методики феноменологического подхода в последние годы привлекают внимание исследователей народной культуры. Сущность его заключается в обнаружении исторически меняющихся смыслов в источниках, которые репрезентируют конкретное явление культуры.
Определяя методологическую основу исторической феноменологии, исследователи отмечают, что ее предметом является самосознание человека и общества в динамике их собственных изменений. В отличие от позитивизма, признающего то, что было на самом деле (см. теорию Л. фон Ранке), историческая феноменология стремится реконструировать самосознание как систему ценностно-значимых представлений, влиявших на поведение человека, и в том видит историю как предмет [Баранов]. В отличие от постмодернистских влияний на современные гуманитарные дисциплины, историческая феноменология «ищет в исторических источниках не бессознательное, а именно сознательное ( личностное ) начало , не архетипы и структуры (чаще всего имеющие отношение к мифологии их творцов), а проявления индивидуального и общественного сознания, подтвержденные словами и мыслями людей» (выделено мной. — А. В .) [Каравашкин, Юрганов: 331].
Если в целом для исторической феноменологии объектом является «источник как интерсубъективная реальность» [Каравашкин, Юрганов: 333], то в наших исследованиях конкретным объектом становится интуитивное восприятие культурного («сотворенного») предмета — словом, все то, что относится к признакам его целостности в истории культуры. В прагматико-бытовом, обрядово-игровом и эмоциональнопсихологическом контекстах они являются результатом жизнедеятельности традиционного сообщества.
Нам также близко понимание феноменологического подхода, изложенное в статье Т. А. Бернштам «Феноменальность и символизм русской народной культуры» [Бернштам]. Наиболее важные положения ее теоретических выводов, на наш взгляд, заключаются в признании за феноменологией возможности комплексной интерпретации фактов народной культуры, воспринимаемых как целостность (феномен) в истории культуры: «Нащупывание методологии нового направления происходило медленно и вначале подспудно, по мере расширения горизонтов (культурного поля) исследования, сбора и анализа данных и источников междисциплинарного диапазона, а также освоения аналогичного или близкого мне опыта в отечественной и зарубежной науке. Осмысление теоретического наследия оказалось весьма результативным: во-первых, я убедилась в причастности собственных замыслов и идей к вечной проблеме российской гуманитарии (в первую очередь — фольклористики), которой более всего подходит название “человек-и-традиция”, а во-вторых, оно помогло мне найти собственные понятийно-методологические ключи. В последнем немалую роль сыграло знакомство с опытом американских и европейских ученых» [Бернштам].
Разделяя в целом положения исторической феноменологии, а также теоретические положения Т. А. Бернштам, уточним некоторые конкретные подходы в наших исследованиях. Объектом рассмотрения являются фольклорные и этнологические источники (тексты). При этом предпринимается попытка использования методов перформанса1 в исторической реконструкции местных обрядов, обычаев, поверий как минимум трех поколений носителей фольклорного знания, сохранившегося в форме меморатов, песенно-музыкальных жанров, «слухов и толков», а также вербальных и других видов манифестаций, зафиксированных собирателями-любителями и профессиональными фольклористами. Это способствует возникновению «антропологического акцента» в исследовательском процессе, вовлечению в него субъективных факторов, связанных с личностной составляющей фольклорных традиций.
Границы применяемых нами методов и приемов несколько расходятся с подходами собственно исторической феноменологии, хотя и опираются на известное положение герменевтики. По Гадамеру, понимание текста (или явления) одновременно интуитивно и рационально. Рациональное понимание и есть истолкование, интерпретация текста. Герменевтика видит в интерпретации перекодировку произведения, перевод его на другой язык [Гадамер: 43], а интуитивное восприятие (рецепция) понимается как инклюзивное проявление свойств объекта в конкретной исторической обстановке и социальносубъективной среде бытования.
То или иное явление традиционной культуры допускает при его изучении применение междисциплинарных методологических приемов перформанса и связь их с теорией игры [Плотникова, 2010], так как до недавнего времени (вплоть до 80-х гг. XX в.) отчетливо сохранились их следы в памяти места. Об этом свидетельствуют многочисленные вербальные и невербальные манифестации в виде полевых записей, а также поведенческих стратегий носителей культуры. Например, свадьба является сингулярным коммуникативным событием, если рассматривать это событие с точки зрения определенных стратегий / технологий [Плотникова, 2015]. Именно в такой коммуникативной «разрядке» приемлемо понимание свадебного обряда как «игры» [Плотникова, 2010] и его восприятие как «незавершенного гештальта»2.
В методологический инструментарий комплексного изучения народной культуры вводится также попытка применения общепсихологических подходов, позволяющих, на наш взгляд, представить традиционную свадьбу как важный феномен в системе традиционных ценностей.
В этом контексте системообразующим понятием становится саморефлексия носителей традиционной народной культуры. В современной научной литературе оно сопрягается с такими понятиями как «этническая самоидентификация», «национальное самосознание», «национальная память», «национальная традиция», «историческая память», «личность и национальная культура» и т. п. Впервые эта проблема была поставлена Густавом Шпетом в известном труде «Введение в этническую психологию» (1927). Разработка его идей нашла отражение в американском психологическом направлении культурной антропологии, а в отечественной этнологии — в исследованиях психологических характеристик народов (1970–1980-х гг.) и в сложившемся в последние десятилетия XX в. направлении «психологической антропологии» (см.: [Белик], [Лурье]).
Разыскания в области этнической и кросс-культурной психологии нашли отражение в отечественных исследованиях (см.: [Бороноев, Павленко], [Платонов], [Крысько], [Лебедева], [Стефаненко]). На основании перечисленных работ очевидно, что создается междисциплинарная исследовательская область, в которой представители разных специальностей обращаются к одному объекту, применяя различные когнитивные схемы. Важно отметить то, что формы культуры в них рассматриваются сквозь призму сознания ее носителей и что каждая культура задает степень жесткости при воспроизведении культурных доминант и степень допустимого отхода от них. Этот принцип можно определить как свободу личности «переписывать сценарий» жизни предков, или «принцип вариативного копирования образца» [Делёз].
Среди других исследовательских направлений следует выделить так называемую «эго-психологию», которая разрабатывает проблематику, связанную с вопросами социализации и идентичности3. В том же ряду следует назвать и лингвистический психоанализ, объектом которого являются структуры языка как отражение личностной структуры4. Среди этих направлений концепция «интенционального культурного мира» (Р. Шведер) занимает особое место, т. к. основной ее идеей является взаимообратимость личности и традиции в процессе постоянного конструирования друг друга. Слово “intentional” может быть переведено как «сконструированный», «вымышленный» — следовательно, «интенциональный мир»=«вымышленный» или «сконструированный мир»: сконструированный посредством культуры, вымышленный на основании тех или иных культурных парадигм. Каждая культура задает свою логику мышления, на основании которой люди и создают свое представление как о внешнем мире, так и о себе самих. Самопредставление также задано культурой, а потому интенционально. Каждая культура имеет свой собственный облик, и то, что мы называем рациональным научным исследованием, лежит в рамках наших собственных представлений. Мы можем познать иную реальность, но выйти за пределы своей предубежденности в познании как таковой не в силах, поскольку сам наш механизм восприятия реальности «работает» только в заданных культурой парадигмах. Объективной реальности для нас просто нет в том смысле, что для человека она непознаваема. Проблема в том, чтобы объяснить разнообразие человеческих концепций реальности. Интенциональность является, по Р. Шведеру, предпосылкой любого адекватного теоретизирования о человеке: «Индивиды и традиции, души и культуры создают друг друга. Поэтому идея культурной психологии предполагает, что процессы сознания (процесс самоутверждения, процесс научения, процесс рассуждения, процесс эмоционального чувствования) не могут быть одинаковыми в различных культурных регионах мира» [Sсhweder: 2]. Именно в рамках этой концепции важно выделить понятие самореф-лективного диалога личности и культуры как когнитивного действия, получившее разработку в методологии синергетики [Князева].
Следует отметить, что в современной фольклористике В. А. Поздеев предложил название целому направлению — «психофольклористика», по аналогии с психолингвистикой, лингвофольклористикой и т. п.
Другое дело, когда мы сталкиваемся с осознанной записью фольклора «на местах». Речь идет не о корреспондентах, осуществлявших собирательскую деятельность по инициативе РГО и других обществ конца XIX–XX вв. (см.: [Васкул]), а главным образом — о личной инициативе местных жителей.
Именно деятельность представителей местного сообщества составляет, на наш взгляд, определенный интерес, связанный непосредственно с осмыслением и интерпретацией традиции.
На настоящем этапе разработки этой проблемы достаточно указать только на некоторые важнейшие ее аспекты: в каких жанрово-видовых разновидностях доходят до нас сочинения, в которых содержится механизм саморефлексии традиции, и какова роль в ней субъективного начала (подробнее см.: [Власов, Дорохова: 7–23]).
Суммируя сказанное, отметим, что в механизме самореф-лексии традиции важно выявить ценностные ориентиры, на которые опирается ее носитель, когда формулирует свое отношение к ней. Определяющим служит четкое представление о границе между «своим» и «чужим».
Все известные нам формы «саморефлективного диалога личности и культуры» способствуют потере аутентичности текстов традиционной культуры и направлены на перекодировку языка фольклора. Поэтому поставленные проблемы изучения письменных манифестаций фольклора внутри определенной культурной традиции не только открывают для исследователей новые возможности ее взаимодействия с другими культурными системами, но и позволяют понять некоторые механизмы ее внутренней перестройки под воздействием различных внешних факторов. Несколько в ином контексте, но, по-моему, в близком понимании категорию аутентичности рассматривает А. А. Панченко с отсылкой к работе R. Bendix [Bendix: 7–17, 21], заключая, что она актуальна только в случае, если отвечает задачам дискурса [Панченко: 85].
Человек живет в мире, а мир живет в нем. Эта парадигма лежит в основе нашего подхода к изучаемому объекту. Сущность его заключается в том, что наличие эстетического начала в явлениях традиционной культуры имманентно ее бытию.
Чтобы понять важность художественного начала в сознании носителей традиционного знания, необходимо восстановить картину ценностных ориентиров и смысловых стереотипов в жизни сообщества, в интерпретации наиболее явных исторических изменений в поведении местных жителей и выявлении художественных (=творческих) потенций в национальной (этнической) культуре, включая сюда и современную поп-культуру как акт восстановления культурной памяти.
Целью феноменологического подхода является восстановление ценностных ориентиров культурной деятельности и представлений о природном эстетическом вкусе (чувстве красоты, в котором семиотически противопоставлены образы прекрасного и безобразного), его изменениях во времени и под влиянием разного рода обстоятельств.
Ключевую роль в предлагаемом подходе играют понятия умение и ремесло , на что обращал внимание А. Ф. Лосев в работе «История античной эстетики» [Лосев]. Эти понятия ближе к восприятию предметов т. н. прикладного искусства — к хореографии, музыке и др. Заметим, что с топора никто не ест, лучше есть с ложки, искусно вырезанной и несущей дополнительные смыслы при вкусовом восприятии пищи. И женщина («девка») прядет, сидя за искусно сделанной расписной прялкой, а в хороводах пляшут парами («ходят кунами»), демонстрируя пластическую красоту тела. В похоронных и свадебных обрядах причитают плачеи — умелицы, способные вызвать глубокие эмоциональные чувства, и т. д. Словом, это составляет «природный» (естественный) гармонический (катарсический) или негативный отклик при восприятии окружающего мира.
Критерии такого подхода складывались благодаря трудам по исторической поэтике А. Н. Веселовского и теоретической поэтике А. А. Потебни, а также исследованиям М. М. Бахтина по эстетике словесного творчества ([Веселовский], [Потебня], [Бахтин]; см. также: [Тамарченко]).
Что же касается устойчивой негативной парадигмы «фольклор как искусство слова», то на современном этапе изучения фольклора ее следует воспринимать прежде всего как реакцию на идеи представителей русского модерна в период конца XIX — начала XX в. при становлении научной дисциплины, а резко отрицательное отношение к ней проявилось уже в постсоветский период у некоторых российских фольклористов (кон. 80-х гг. XX — нач. XXI в.), которые практически исключили из исследовательского поля интерес к поэтической природе народной культуры. Наиболее характерный пример такого нигилистического отношения к памятникам фольклора демонстрируется в статье А. А. Панченко «Фольклористика как наука», в которой условно обозначены актуальные проблемы современного состояния фольклористической науки и пути преодоления кризиса. Автор риторически подчеркивает: «Наконец, чрезвычайно проблематичным представляется вопрос о поэтических и эстетических категориях, зачастую произвольно вменяемых фольклористами изучаемым культурам». И далее в заключительном разделе «Фольклорис-тика без фольклора»: «5. Исследование “поэтики фольклора” в категориях литературоведческой эстетики Нового времени не имеет эвристического смысла. Изучение литературной рецепции и репрезентации крестьянской культуры интересно и небесполезно, однако оно не способствует пониманию самой этой культуры. Анализ поэтической и эстетической специфики массовой словесности требует ориентации на концепцию рецептивной эстетики, исследования в области когнитивной антропологии и лингвистики, этнографии речи. Кроме того, в подобных разысканиях необходимо учитывать невербальную составляющую экспрессивных форм массовой культуры» [Панченко: 82–84, 90].
Современные работы в рамках этнолингвистики (уж́ е — лингвофольклористики) сосредоточены, как правило, на коммуникативном аспекте исследований фольклора, что практически не затрагивает вопросы эстетической природы фольклорного явления. Введенное в 1994 г. понятие этнопоэтики [Захаров] расширяет представления филологической науки о фольклорном тексте в широком понимании. В связи с этим хотелось бы предложить для обсуждения новый термин — артпоэтика (от art — «искусство, художественная деятельность»5 и poetika — «делание, ремесло» в аристотелевском понимании, связанном с теорией подражания (мимесис) и очищения (катарсис)6), который бы объединил все виды и формы художественного творчества в народной культуре, но не сводил бы народное искусство к известной формуле «фольклор как искусство слова».
самого выражения и связанное с ним специфическое удовольствие”)…» [Загорулько: 75].
340 p. (In English)
Список литературы Феноменологический подход в анализе поэтики фольклора
- Алексеева О. В. Ракульская роспись. Новые материалы // Рябининские чтения-2007: мат-лы Междунар. науч. конф. / под ред. Т. Г. Ивановой. Петрозаводск: Историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи», 2007. С. 135–139.
- Баранов Н. Н. Леопольд фон Ранке: историк и его метод // Россия и мир: панорама исторического развития: сб. науч. ст., посвящ. 70-летию исторического факультета Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького / отв. ред. Д. А. Редин. Екатеринбург, 2008. С. 36–41.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 444 с.
- Белик А. А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии. М.: РГГУ, 2001. 380 с.
- Бернштам Т. А. Феноменальность и символизм русской народной культуры // Фольклор и фольклористика. СПб., 2004 [Электронный ресурс]. URL: http://folk.spbu.ru/Reader/bernshtam2.php?rubr=Readerarticles (20.01.2022).
- Бороноев А. О., Павленко В. Н. Этническая психология. СПб.: СПбГУ, 1994. 168 с.
- Васкул А. И. Из истории Архива Русского географического общества // Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского географического общества / подгот. текста и вступ. ст. А. И. Васкул. СПб., 2019. Вып. 4. С. 10–22.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. 404 с.
- Власов А. Н. «Память места» как аспект теоретической проблемы локальности / региональности в русском фольклоре // Региональные исследования в фольклористике и этнолингвистике: проблемы и перспективы: сб. ст. М., 2015. С. 70–82.
- Власов А. Н., Дорохова Е. А. Свадебный фольклор нижней Вычегды: опыт феноменологического исследования. СПб., 2021. 344 c.
- Гадамер Г. Х. Истина и метод: основы философской герменевтики / пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 384 с.
- Загорулько М. А. Алексей Лосев и аристотелевское понимание мимесиса в искусстве // Соловьевские исследования. 2017. Вып. 2 (54). С. 66–76.
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7–19. [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (20.01.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003. 381 с.
- Князева Е. Н. Саморефлективная синергетика // Вопросы философии. 2001. № 10. С. 99–113.
- Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. М.: Экзамен, 2002. 447 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. 184 с.
- Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Ключ-С, 1999. 223 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 776 с.
- Лурье С. В. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы. Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 622 с.
- Панченко А. А. Фольклористика как наука // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докладов. М., 2005. Т. 1. С. 72–96.
- Платонов Ю. П. Этническая психология. СПб.: Речь, 2001. 319 с.
- Плотникова С. Н. Игра в свете парадигмы множественности миров: дискурсивный аспект // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2010. № 1. С. 84–92.
- Плотникова С. Н. Дискурсивные технологии и их роль в конструировании социального мира // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2015. № 3 (714). С. 72–83.
- Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 342 с.
- Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, Академический проект, 2000. 320 с.
- Тамарченко Н. Д. Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества // Вопросы литературы. 2011. № 1. С. 291–340.
- Bendix R. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison: University of Wisconsin Press Publ., 1997. 306 p.
- Glover E. The Birth of the Ego: A Nuclear Hypothesis. New York: International Universities Press, 1968. 125 p.
- Hartman H. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. New York, 1958. 340 p.
- Schechner R. Performance Studies. London; New York: Routledge, 2013. 363 p.
- Schweder R. A. Preview: A Colloquy of Culture Theorists // Cultural Theory. Essays on Mind, Self and Emotion / Shweder R. A., Levine R. A. (eds.). Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1984.
- Spitz R. No and Yes. New York, 1963. 170 p.