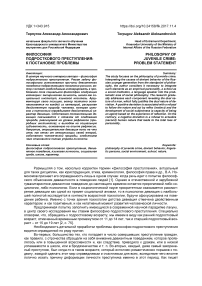Философия подросткового преступления: к постановке проблемы
Автор: Терпугов Александр Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В центре научного интереса автора - философия подросткового преступления. Решая задачу философского истолкования причины девиантного поведения подрастающего поколения россиян, автор считает необходимым интегрировать в проблемное поле социальной философии следующие категории: эмпирическая личность, школа как социальный институт, языковой носитель. Аргументируя свою позицию, автор поэтапно останавливается на каждой из категорий, раскрывая двойственную природу человека, которая целиком и полностью оправдывает двойственный характер девиации. Собственно положительная девиация связывается с отказом от следования природе, реализуемой на уровне рефлексов (природных инстинктов), и выходом на социальную субъектность, основанную на опыте рефлексии. Напротив, отрицательная девиация есть не что иное, как отказ от актуализации своей второй, собственно человеческой природы, следствием чего становится полная утрата личности.
Философия подросткового преступления, девиантное поведение, языковая личность, социальная среда, школа, характер
Короткий адрес: https://sciup.org/14941124
IDR: 14941124 | УДК: 1+343.915 | DOI: 10.24158/fik.2017.11.4
Текст научной статьи Философия подросткового преступления: к постановке проблемы
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Размышляя о том, насколько корректен термин «философия преступления», актуальный для таких дисциплин, как юриспруденция, этика, криминология, философия права и др., В.А. Но-мокомов признает его оправданность лишь в одном случае: когда речь идет о попытке философского объяснения девиантности в поведении людей [1]. Однако в отечественной и зарубежной гуманитаристике девиантное поведение до настоящего времени остается прерогативой либо социологии, либо психологии. Если в социологической науке приоритетным оказывается рассмотрение девиации как одной из примет социальной аномии, то в психологии девиация с наибольшей полнотой исследуется в контексте возрастной психологии, будучи сфокусирована на поведении ребенка. Именно с точки зрения психологии детства девиация отмечена двойственным характером: и как позитивный, и как негативный момент развития человеческой личности.
Предпринимая попытку заполнить имеющуюся в современной научной парадигме лакуну, в центр своего исследования мы ставим философию подросткового преступления. Специально оговорим, что, обращаясь к подростковому возрасту, мы имеем в виду как ранний подростковый возраст, отмеченный временным промежутком от 11 до 14 лет, так и старший подростковый возраст – от 15 до 19 лет [2, с. 75].
Необходимость детальной проработки проблемы философии подросткового преступления видится оправданной по ряду причин.
Во-первых, большинство тех, кто попадает в число совершивших преступление граждан, как правило, с отрочества обращали на себя внимание девиантным поведением, которое проявлялось или в повышенной агрессивности и, как следствие, приводило к дракам, или в низкой успеваемости в школе, или в бродяжничестве и т. п. Во-вторых, каждый, даже самый закоренелый преступник, был когда-то в таком возрасте, который исполнен романтических порывов к подвигу, жаждой сделать этот мир справедливым и счастливым для всех, вследствие чего вполне логично искать причину деформации личности преступника именно в этот период. Как пишет
Э.А. Поздняков, «любой человек способен и на низкое преступление, и на возвышенный поступок вплоть до самопожертвования» [3, с. 289]. Наконец, то обстоятельство, что отрочество и юность в меньшей степени подвержены стагнации, позволяет надеяться, что своевременное осознание философских оснований подросткового преступления позволит выявить механизмы, обеспечивающие качественный рост личности, способной противостоять негативным трансформациям.
Важно заметить, что, предпринимая попытку философского объяснения девиантного поведения подрастающего поколения россиян, мы интегрируем в пространство философии как эмпирическую личность подростка, так и ту социальную среду, в которой происходит его формирование. Имеется в виду пространство российской школы, в котором доминирующее положение остается за личностью учителя. В силу того, что процесс социализации, реализуемый посредством обучения и воспитания, осуществляется посредством языка, актуализация которого происходит на уровне общения, отдельное внимание уделяется становлению подростка, движущегося от языкового носителя к речевому субъекту. Остановимся на каждом из положений более подробно.
Подросток как эмпирическая личность
То обстоятельство, что в рамках философии преступления подросток предстает как эмпирическая личность, позволяет сфокусировать исследовательский интерес на его природе, которая, подобно девиации, отмечена двойственным характером. Если в качестве первой природы человека принять все те биологические параметры, которые обеспечивают процесс его социализации, то вторая природа будет определяться уровнем несовпадения между тем, что отвечает природной данности, и тем, что связывается с собственно человеческим заданием. Речь идет об осознанных действиях, следование которым способствует личностному росту индивида.
Принимая во внимание тот факт, согласно которому человеческое в человеке пробуждается посредством мозговой активности, весьма важным в данном контексте будет следующая мысль. Человеческий «мозг обладает безграничными возможностями для восприятия разносторонней социальной программы, обеспечивая универсальную готовность новорожденного подключиться к общественной форме движения материи» [4, с. 67]. Поскольку «реализовать должным образом этот колоссальной значимости потенциал – задача воспитания» [5, с. 68], особую роль в актуализации второй природы человека играет школа.
Школа как социальный институт
Делая акцент на данной институции, мы никоим образом не игнорируем семью как базовый социальный институт, закладывающий фундамент будущей личности. Однако в силу того, что именно в стенах учебного заведения воспитание подрастающего поколения перестает быть частным делом, обретая статус общегосударственной задачи, именно школа выступает средой обитания молодого поколения россиян. В данном контексте особенно примечательным видится тот факт, что обучение и воспитание как две базовые функции, реализуемые в процессе школьного образования, нацелены одновременно как на первую, так и на вторую природу человека.
Аргументация представленной позиции выстраивается с опорой на метод анализа словарных дефиниций, предпринятый С.В. Поповой. В частности, этимология лексемы «учить» позволяет выявить такое смысловое наполнение интересующего нас понятия, которое образуется посредством следующей синонимичной цепочки: выкнуть, приучать, укрощать, манок, приманка, смирный, ручной, находить удовольствие [6, с. 33]. Другими словами, речь идет о таком процессе, в рамках которого подросток осваивает некоторое знание, закрепляемое «в ходе методичных воздействий (“приучать”, “укрощать”)», направленных «на достижение определенного результата (“смирный” – подчинение своей воле)» и отмеченных «как силовым (“укрощать”) характером, так и некоторым лукавством (“приманка”)», что в целом обеспечивает сопровождение данного процесса «позитивным чувственным восприятием (“удовольствие”)» [7, с. 34].
В свою очередь, лексема «воспитывать» оказывается в одном ряду с такими понятиями, как кормить, пестовать, орошать, поить (применительно к скоту) [8, с. 754]. Как пишет П.С. Волкова, «несмотря на разную этимологию интересующих нас лексем, между ними существует нечто общее. Имеется в виду нацеленность на животное начало в человеке» с тем, чтобы вочеловечить зверя [9]. Другими словами, речь идет о необходимости преобразовать первую природу человека в его вторую природу, которую Э. Фромм определял на уровне характера как «относительно постоянной системы всех неинстинктивных влечений (стремлений и интересов), которые связывают человека с социальным и природным миром» [10, с. 310].
Языковой носитель – речевой субъект
Признавая, что в целом процесс обучения и воспитания оказывается в ведении учителя, нельзя не согласиться с тем, что общие для учителя и его подопечных ценности вырабатываются исключительно в ситуации общения, что оказывается возможным благодаря языковой компетентности всех его участников. Каким образом осуществляется искомая компетенция? По свидетельству Р.И. Павилёниса, каждый из нас предстает в качестве носителя индивидуальной концептуальной системы, в рамках которой происходит непрестанное взаимодействие ее вербаль- ных и невербальных элементов. Первые связаны с рациональным сознанием, вторые – с иррациональным. Причем, поскольку фундамент системы закладывался на основе невербальных элементов, образование элементов вербальных было вызвано исключительно необходимостью кодировать иррациональный опыт и манипулировать им через манипулирование вербальными символами. Такой опыт Р.И. Павилёнис квалифицирует как опыт интерпретации [11].
Разрабатывая концепцию Р.И. Павилёниса, П.С. Волкова считает возможным рассматривать процесс образования индивидуальной концептуальной системы языкового носителя с позиции целесообразного, автоматически запущенного природой процесса. В силу того что такая индивидуальная концептуальная система функционирует на уровне самоорганизации, природная активность, обусловленная биологическим началом, доминирует над социальной субъектностью. Подобное положение дел закрепляет за индивидом статус языкового носителя [12], который остается пассивным потребителем того природного дара, благодаря которому человек отличается от всего животного мира.
Знаменательно, что нередко не что иное, как паразитирование на этой первой природе, реализуемой на уровне индивидуальной концептуальной системы как автоматически запущенном природой процессе, оказывается в основе учебной деятельности, когда учитель «дрессирует» ученика, «натаскивая» его на определенный предмет. Как правило, следствием такого взаимодействия становится более или менее успешное овладение учащейся молодежью знаниями, умениями и навыками, необходимыми для получения аттестата. Неслучайно поэтому взятая на вооружение отечественной системой образования установка на готовность учиться на протяжении всей жизни не находит реальной поддержки со стороны большинства россиян [13, с. 2985–2991].
Дело в том, что обозначенная установка полностью исключает какую бы то ни было дрессуру, поскольку готовность учиться в первую очередь обусловлена доброй волей самого субъекта, не будучи результатом социального принуждения. Соответственно, в идеале школа должна обучить учащуюся молодежь умению учиться, вооружив ее умением самостоятельно преодолевать любые трудности, с уверенностью решая самые разные жизненные задачи. Понятно, что в этом случае природная активность должна быть преодолена активностью собственно человеческой.
Суть подобной трансформации, по мнению П.С. Волковой, заключается в том, чтобы природную данность подчинить сугубо человеческой задаче, задавая иную направленность в работе индивидуальной концептуальной системы. Так, если изначально система складывалась на уровне невербальных элементов, которые кодировались вербальными концептами, обеспечивая возможность манипулировать невербальным опытом посредством вербализации, то в случае организации системы дόлжно действовать противоположным образом:
-
«1) декодировать вербальные элементы системы невербальными элементами последней;
-
2) кодировать невербальные элементы системы ее вербальными элементами» [14, с. 761].
При этом принцип интерпретации, актуальный для процесса самоорганизации системы, органично входит неотъемлемой частью в новую целостность, которую П.С. Волкова связывает с принципом реинтерпретации. Поскольку «латинская приставка “ре” означает одновременно как возврат к тому, что дано, так и отказ, как повторение существующего, так и его тотальное переосмысление, суть нового, “надстраиваемого” над природным, принципа заключается в замене процесса самоорганизации индивидуальной концептуальной системы на процесс ее организации» [15].
Соответственно, если в случае с первой природой человека мы имели исключительно природную целостность, обусловливающую жизнедеятельность индивида на уровне рефлексов, то в случае со второй природой – целостность сугубо человеческую. Речь идет о мыследеятельно-сти речевого субъекта, осуществляемой на уровне рефлексии методологического типа. Вспомним Р. Декарта: каждый из нас существует ровно настолько, насколько он оказывается способным мыслить. В данном контексте формирование способности к самообучению есть не что иное, как формирование культуры мышления, что оказывается залогом успешного продвижения от зверя к собственно человеку.
Подводя итоги всему вышеизложенному, заметим, что, осуществляя философское объяснение причин девиантного поведения подрастающего поколения россиян, приводящего к преступлению, мы имеем все основания внести коррективы в двойственный характер девиации, который коррелирует с двойственной природой человека. Так, положительная девиация связывается нами с отказом от следования природе, реализуемой на уровне рефлексов (природных инстинктов), и выходом на социальную субъектность, основанную на опыте рефлексии. Напротив, отрицательная девиация есть не что иное, как отказ от актуализации своей второй, собственно человеческой природы, следствием чего становится полная утрата личности.
Ссылки:
-
1. Номоконов В.А. «Философия преступления» или «преступная философия»? // Криминология: вчера, сегодня, завтра.
2014. № 4 (35). С. 26–34.
-
2. Фомиченко А.С. Восприятие и понимание учителями агрессивного поведения учащихся : дис. … канд. психол. наук. М., 2014.
-
3. Поздняков Э.А. Философия преступления. М., 2001. 576 с.
-
4. Дубинин Н.П. Наследование биологическое и социальное // Коммунист. 1989. № 2. С. 62–74.
-
5. Там же. С. 68.
-
6. Попова С.В. Лингвокультурный типаж «школьная учительница»: субъектное позиционирование : дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2012.
-
7. Там же. С. 34.
-
8. Волкова П.С. Российская школа как путь восхождения от внешнего человека к человеку внутреннему: методологический аспект // Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире. Майкоп, 2017. С. 753–763.
-
9. Там же. С. 754.
-
10. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 2015.
-
11. Павилёнис Р.И. Проблема смысла. М., 1983. 286 с.
-
12. Волкова П.С. Культура в пространстве бытия: интерпретация и реинтерпретация // Наследие веков. 2016. № 1. С. 54–60.
-
13. Пинчук А.Н. Образовательные практики в век новых технологий // Социология и общество: социальное неравенство
и социальная справедливость : материалы V Всерос. социол. конгр. М., 2016. С. 2985–2991.
-
14. Волкова П.С. Российская школа … С. 761.
-
15. Там же.
Список литературы Философия подросткового преступления: к постановке проблемы
- Номоконов В.А. «Философия преступления» или «преступная философия»?//Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 4 (35). С. 26-34.
- Фомиченко А.С. Восприятие и понимание учителями агрессивного поведения учащихся: дис. … канд. психол. наук. М., 2014.
- Поздняков Э.А. Философия преступления. М., 2001. 576 с.
- Дубинин Н.П. Наследование биологическое и социальное//Коммунист. 1989. № 2. С. 62-74.
- Попова С.В. Лингвокультурный типаж «школьная учительница»: субъектное позиционирование: дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2012.
- Волкова П.С. Российская школа как путь восхождения от внешнего человека к человеку внутреннему: методологический аспект//Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире. Майкоп, 2017. С. 753-763.
- Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 2015.
- Павилёнис Р.И. Проблема смысла. М., 1983. 286 с.
- Волкова П.С. Культура в пространстве бытия: интерпретация и реинтерпретация//Наследие веков. 2016. № 1. С. 54-60.
- Пинчук А.Н. Образовательные практики в век новых технологий//Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: материалы V Всерос. социол. конгр. М., 2016. С. 2985-2991.