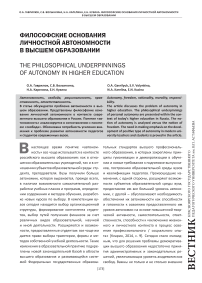Философские основания личностной автономности в высшем образовании
Автор: Гаврилюк Оксана Александровна, Волынкина Светлана Вадимовна, Карелина Наталья Андреевна, Кузина Елена Николаевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (29), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается проблема автономности в высшем образовании. Представлены философские основания личностной автономности в контексте современного высшего образования в России. Понятие «автономность» анализируется в сопоставлении с понятием «свобода». Обоснована потребность усиления внимания к проблеме развития автономности педагогов и студентов современных вузов.
Автономность, свобода, рациональность, нравственность, ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/144153968
IDR: 144153968
Текст научной статьи Философские основания личностной автономности в высшем образовании
В настоящее время понятие «автономность» все чаще используется в контексте российского высшего образования: как в отношении образовательных учреждений, так и в отношении субъектов образовательной среды: студента, преподавателя. Вузы получили больше автономии, которая выражается, прежде всего, в наличии возможности самостоятельной разработки учебных планов и программ, определении содержания и методов обучения, разработке новых курсов по выбору. В компетенции вузов сегодня находится выбор организационной структуры, формирование контингента студентов, выбор путей получения финансов за счет различных видов образовательной, научной и иной деятельности. Расширяются и возможности, предоставленные студентам: все чаще им дается право выбора траектории, формы и ме- тодов собственной учебной деятельности. Такие изменения в образовательной практике подкре- плены новой законодательной базой в области высшего образования и развивающейся системой Федеральных государственных образова- тельных стандартов высшего профессионального образования, в которых закреплены принципы гуманизации и демократизации в обучении и новые требования к подготовке выпускников, построению образовательной среды вузов и квалификации педагогов. Произошедшие изменения, с одной стороны, расширяют возможности субъектов образовательной среды вуза, предоставляя им все больший уровень автономии, с другой – обусловливают необходимость обеспечения их автономности как способности и готовности к освоению предоставленного им уровня автономии на основе повышенной творческой активности, самостоятельности, ответ- ственности, способности к «включению жизнен- ного и личностного контекста в процесс осво ения профессионального / социального опы та» [Кларин, 2014, с. 9]. Сегодня стало очевид ным, что для решения проблемы демократизации высшего образования недостаточно приня- тия административных и законодательных решений, увеличивающих уровень академических свобод. Важны не только и не столько внешние
ВЕСТНИК
факторы, сколько желание, готовность и способность самих субъектов образовательной среды вуза к автономной деятельности, а также глубокое осознание ими образовательного контекста и сути автономности в образовании.
К сожалению, среди педагогов и, соответственно, среди студентов современных вузов, далеко не всегда присутствует глубокое понимание того, что же подразумевает под собой «автономность». С одной стороны, существует обусловленное традициями низкого уровня свободы в российском образовании неприятие всего, что может быть связано с индивидуализмом, конкуренцией, взятием на себя ответственности, самостоятельным принятием решений, инициативностью и независимыми действиями. С другой – нередко под автономностью понимают уход от контроля со стороны, что, в свою очередь, чревато протестом против нововведений и возникновением случаев «злоупотребления автономией» (например, ущемление педагогами прав обучающихся).
Ключ к пониманию истинного содержания автономности лежит в истории философии, где, с развитием процессов гуманизации и демократизации общества, в контексте философских идей о свободе, возникает понятие «автономия». Примечательно, что взаимосвязь понятия «автономия» с понятием «свобода» прослеживается не только в современном контексте (когда речь ведется, например, об академической свободе и автономии, о личностной свободе и автономности), но и на протяжении истории развития философских идей, в которых эти термины нередко используются в качестве синонимов. Анализ данных социальной философии, философской антропологии и методологии философского знания позволяет вести речь о том, что представления философов о свободе, автономии, а затем и автономности человека изменялись в процессе развития и смены исторических формаций, теологических и философских школ и направлений.
Развитие идеи автономии происходит при переходе от греческого и римского язычества к христианству, построенному на основе переплетения идей теоцентризма и антропоцентризма. Как отмечает М.А. Можейко, «христианство, в целом, существенно сдвигает культурные акценты: безусловно сохраняющая свой статус идея всеобщего единения (в духовном аспекте) дополняется и уравновешивается идеей автономии в плане отношения к наличному социальному контексту» [История философии…, 2002]. Христианская идеология внесла значительный вклад в развитие идеи автономии, акцентировав внимание на ее внутреннем аспекте – духовной автономности и связав этот аспект с добродетелью и нравственностью: действительно свободным считался тот, кто отвергал зло не по- тому, что оно запрещено, а потому что это зло [Гертых, 1994, с. 101].
В последующем в рамках философских идей, затрагивающих проблемы свободы и автономии, не раз отмечалась значимость внутреннего аспекта этих понятий. Эта значимость заключается, во-первых, в отмечаемой многими философами возможности реализации внутренней свободы (или внутренней автономии) даже в условиях отсутствия внешней (Сократ, И. Кант, Д.С. Милль, И.Ф. Богданович, И.А. Ильин и др.). Во-вторых, она обусловлена присутствующей в работах перечисленных авторов «положительной» оценкой данного аспекта с точки зрения морали и рациональности, а также связи со способностью и готовностью личности к ответственному взаимодействию с окружающим миром. В истории философских идей этот внутренний аспект автономии не раз связывался с интеллектуальными способностями увидеть и принять «необходимость», с внутренними индивидуально-волевыми, ценностномировоззренческими качествами индивида (Г. Гегель, Ф.М. Достоевский, Е.Н. Трубецкой, Н.А. Бердяев, В. Франкл и др.). Указанные идеи о ценности внутреннего аспекта автономии и привели к необходимости специального терминологического обозначения этого аспекта. Но, в силу лингвистических причин, в европейских языках (где термины «автономность» и «автономия» звучат одинаково) возникают трудности с выделением такого термина. Соответственно, ученым приходится либо использовать один и тот же термин для обозначения автономии и автономности, либо прибегать к использованию ряда производных от первичного термина «свобода» (типа «свободоспособность», «внутренняя свобода», «креативная свобода» и т.п.). Такая ситуация объясняет сравнительно позднее появление термина «автономность» и использование подобных производных в русском языке, законы которого вполне позволяют провести необходимое разграничение исследуемых понятий. Закрепление термина «автономность» в науке и его дальнейшее развитие происходило в рамках психологии, изучающей характеристики личности и ее деятельности. Тем не менее философская наука внесла и продолжает вносить большой вклад в исследование сущности и содержания понятия «автономность». Так, на протяжении истории философии автономия и автономность личности рассматриваются в тесной взаимосвязи с разумом, осознанием, волей, нравственностью, творческой активной деятельностью, ответственностью, рациональностью, саморазвитием, свободным определением своей позиции среди других, независимым выбором и принятием решений. В целом, в многочисленных гуманистических теориях философии под автономностью понимается способность личности, глубоко осознавая ситуацию, принимать ответственные решения и осуществлять выбор, позволяющая людям играть активную роль в демократическом обществе. При этом проведенный анализ зарубежных и отечественных философских текстов позволяет вести речь о том, что наиболее часто автономность в философии связывают с осознанием и рациональностью (Сократ, Р. Декарт, И. Кант, Р. Прайс, Г. Сид-жвик, Д. Милль, М. Фуко, Э. Фромм, B. Berofsky, G. Dworkin, D.T. Meyers и др.). Такой подход находит отражение в теории К. Маркса и Ф. Энгельса, рассуждающих о свободе как о «принятии решений со знанием дела» [Свобода личности, 1996, с. 6]. Близкие идеи звучат и в современных философских работах, где отмечается, что «чем более человек владеет собой и чем менее склонен он к мимолетным импульсам, тем более свободным и, следовательно, более понятным, будет его поведение, потому что оно в наибольшей степени отражает смысл и ценность поступков [Вегас Мо-льа Хосе, 2005, с. 281].
Наряду с высокой значимостью, придаваемой рациональности в контексте философских идей об автономности личности, учеными отмечается, что концентрация только на операциональном аспекте и рациональности не отвечает «позитивному» идеалу автономности [Meyers, 2004, р. 111]. Не случайно еще И. Кант отмечал, что человек автономен в той мере, в какой он способен воспринять своим разумом внутреннюю действительность моральных норм и внутреннюю значимость этических ценностей [Кант, 1998]. Примечательно, что в отечественной фи-
ВЕСТНИК
лософской науке при рассмотрении проблемы автономности (или же внутренних аспектов свободы) личности на первый план выходят не столько рациональность, сколько ценности и мораль, лежащие в основе духовного развития человека. Так, в русской философии свобода личности тесно связана с высшими ценностям морали и религии, вне которых, как отмечает Н.О. Лосский, «сама личность теряет самоценность» [Лосский, 1991, с. 30]. В основе развития ценностных аспектов автономности и рационального поведения личности лежит осознание объективно существующих ограничений и возможностей, своих целей, желаний, эмоций и чувств, которые «определяют реальность принятия личностью ценности, а не просто ее понимание» [Долгушина, 2012, с. 50].
Одним из наиболее значимых аспектов автономности, выделяемых в целом ряде философских работ, является ее направленность на взаимодействие, взаимосвязь личности с другими людьми. Анализ философских работ (Г. Плесснер, А. Портман, М. Фуко, М. Шелер и др.) предоставляет свидетельства парадоксальной значимости гетерономии для развития автономии. Так, по Фуко, для развития автономности в процессе формирования человека как субъекта необходимо наличие «Другого» как посредника и наставника [Фуко, 1991, с. 311]. Эта идея близка тезису Г. Гегеля о свободе личности: «Я только тогда истинно свободен, если и другой также свободен и мною признается свободным» [Гегель, 1977, с. 241].
Примечательно, что, в отличие от свободы, естественное право на которую человек приобретает с рождением, автономность в философии представлена как характеристика личности, которая не дается человеку от рождения, а зависит от ряда внешних условий (природных, общественных), а также внутренних факторов. Следуя идеям И. Канта, концепция автономности которого отражает тесную взаимосвязь морали, свободы и рациональности, современная философия рассматривает автономность личности в качестве диалектики зависимости и независимости в тесной взаимосвязи с социокультурным контекстом. В многочисленных гуманистических теориях философии отмечается, что автономной личность становится тогда, когда способна не отрицать естественные проявления зависимости, а управлять ими с помощью личностных установок, т. е. делать выбор.
Вслед за развитием идей о «положительной» и «отрицательной» свободе в рассмотрении автономии как способа существования индивида возникают два подхода: творческая автономия для развития и саморазвития и автономия от внешних влияний, ограничений (от личности как «общественного субъекта» до абсолютной свободы личности в образовании). При этом автономность как внутренний аспект автономии связывается большинством философов с положительной свободой, свободой для саморазвития.
Проведенный анализ философской литературы позволяет, прежде всего, выделить основания для дифференциации понятий «свобода» и «автономия». Такими основаниями, на наш взгляд, могут послужить: а) степень абстрактности / конкретности содержания рассматриваемых понятий; б) степень социально-практической обусловленности и направленности, а также в) априорность / изначальное отсутствие. Сообразно этому человеческая свобода представляет собой универсальную теоретическую возможность и одновременно право человека на независимость, на проявление себя, исходя из внутренних побуждений и потребностей, осуществление собственной воли в любой ситуации (не обязательно предполагающей активное действие и взаимодействие с другими людьми). В свою очередь, автономия является одной из форм проявления свободы, конкретизированной применительно к определенной ситуации социального взаимодействия. Будучи социально обусловленной, автономия не может рассматриваться как абсолютная свобода изолированной от общества личности и является ограниченной целым рядом внешних и внутренних факторов и тесно связанной с социальными условиями и взаимоотношениями между людьми.
Рассмотренные выше философские идеи в отношении понятия «автономность» как личностной характеристики, обозначающей вну- тренний аспект автономии, с одной стороны, сужают его значение как в сопоставлении с глобально-философским понятием «свобода», так и с понятием «автономия». С другой – они содержат основания для рассмотрения автономности как целого комплекса стремлений, мотивов, установок, качеств и способов деятельности личности, которые, конкурируя с объективной детерминацией, способны определять поведение и саморазвитие данной личности в широком социокультурном контексте.
Анализ философских работ позволяет утверждать, что осмысление автономности в образовательном контексте должно предполагать учет ее ценностно-смысловых аспектов наряду с операциональными. Такой подход к пониманию автономности чрезвычайно актуален в наши дни, когда достижения цивилизации и повсеместный акцент на рациональность нередко затмевают нравственные черты, нарушая духовное равновесие человека. В этом отношении автономность субъектов образовательной среды вуза приобретает особую значимость и способна заложить основы новой культуры высшего образования, акцент в которой смещен с операциональных компонентов деятельности на ее ценностно-смысловые основания, с внешнего на внутренний локус контроля.