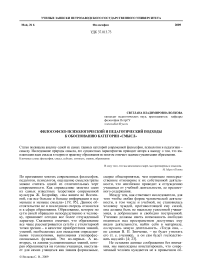Философско-психологический и педагогический подходы к обоснованию категории «смысл»
Автор: Волкова Светлана Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу одной из самых главных категорий современной философии, психологии и педагогики -смыслу. Исследование природы смысла, его сущностных характеристик приводит автора к выводу о том, что имплантация идеи смысла в теорию и практику образования во многом отвечает задачам гуманизации образования.
Философия, смысл, субъект, личность, знание, образование
Короткий адрес: https://sciup.org/14749586
IDR: 14749586 | УДК: 37.013.73
Текст научной статьи Философско-психологический и педагогический подходы к обоснованию категории «смысл»
В силу того, что мы находимся в мире, мы приговорены к смыслам.
М. Мерло-Понти
По признанию многих современных философов, скорее общепринятые, чем имеющие непосред-
педагогов, психологов, ощущение смыслоутраты можно считать одной из отличительных черт современности. Как справедливо заметил один из самых известных теоретиков современной культуры Ж. Бодрийяр, «мы живем во Вселенной, где все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» [19; 95]. Данное обстоятельство не в последнюю очередь относится и к сфере образования. Образование, которое по сути своей обращено непосредственно к человеку, принимает сегодня все более отчужденный характер. Сказанное означает, что образование все чаще рассматривается сугубо с утилитарной точки зрения – в качестве приобретения знаний, умений, необходимых для овладения определенными технологиями, выполнения узкопрофессиональных функций. Это во-первых. А во-вторых, та лавина усложняющихся знаний, которая обрушивается на головы учащихся, выступает для самих учащихся как знания формальные,
ственное отношение к их собственной деятельности, что неизбежно приводит к отчуждению учащихся от учебной деятельности, ее предметного содержания.
Между тем, как отмечают исследователи, для того чтобы любая форма человеческой деятельности, в том числе и учебной, не становилась человеку чуждой, противостоящей ему силой, она должна быть не насильно усвоенной учащимися, а добровольно и свободно построенной. Ученики должны иметь возможность свободно подняться над пространством доступных ему видов деятельности, найти себя в материале, построить новую деятельность. «Тогда она, – по словам В. П. Зинченко, – не будет угнетать его (т. е. ученика), а он сам будет господствовать над ней» [4; 23].
Не оставляя данные соображения без внимания, мы вынуждены констатировать, что современный человек нуждается не в привычном об- разовании своей личности посредством научения, то есть передачи знаний, но в образовании, которое предоставляет возможность обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. Именно опыт приобщения к полю смыслов, опыт, возрождаемый в каждой личности как переживаемый и понимаемый смысл, является, по оценкам многих исследователей, истоком образования (Л. Буева, В. П. Зинченко, И. А. Колесникова, Л. М. Лузина, М. К. Мамардашвили, Ф. Т. Михайлов, Ю. В. Сенько и др.).
Очевидно, что в данных условиях категория смысла не может более оставаться в тени, но должна выйти на передний план и стать предметом рассмотрения не только в философии и психологии, но и в педагогических исследованиях. Ниже нами будет рассмотрено понятие смысла в его философско-психологических аспектах, а также роль и значение этого понятия для образования.
Проблема смысла исследовалась в различных философских направлениях. Однако наиболее значительный вклад в исследование данной проблемы внесла феноменология – одно из крупнейших направлений философии XX века. С точки зрения Э. Гуссерля – родоначальника феноменологической философии, мир, который нам дан, существует в виде некоторой реальности исключительно в человеческом оформлении, поскольку другого мира, мира без человека, нам не дано. Принципиальность этого положения, по мнению немецкого философа, состоит в том, что с самим фактом существования человеческой субъективности в мир пришла совершенно специфическая – смысловая – реальность. Для того чтобы детальнее представить себе сущностную роль смысла в мире, рассмотрим подробнее процесс конституирования смысла, каким он видится Гуссерлем.
Одним из центральных положений феноменологической философии является утверждение о данности мира человеку только через феномены сознания. В одной из своих работ Э. Гуссерль пишет: «Неопределенно общий смысл мира и определенный смысл его компонентов есть нечто, что мы сознаем в процессе восприятия, представления, мышления, оценки жизни, то есть нечто “конституированное” в том или ином субъективном генезисе» [7; 17]. Источником, приписывающим смысл вещам, согласно Э. Гуссерлю, является сознание. Именно благодаря первичной деятельности сознания, осуществляющей спонтанную первоначальную организацию восприятий, «впервые получает свой смысл и свою бытийную значимость весь мир и я сам как объект, как сущий в мире человек» [6; 10]. Сознание, таким образом, выступает единственным полем придания смысла, а человек как носитель сознания является той первичной основой, в которой «рождаются» изначальные смыслы всех форм человеческой деятельности. Таким образом, всякая смысловая определенность предмета в феноменологической установке трактуется не как присущая предмету самому по себе, а как результат деятельности субъекта, и эта деятельность есть «последний источник всякого значимого смысла». Каждый смысл, по Гуссерлю, «интенционально содержится во внутренней сфере нашей собственной испытывающей, мыслящей, оценивающей жизни и формируется в нашем субъективном генезисе сознания» [8; 10]. Основой для такого рода трактовки смысла стало представление об интенциональном строении сознания.
Введение Гуссерлем понятия интенциональности, трактуемого им как направленность на тот или иной предмет, позволило философу преодолеть разорванность субъекта и объекта, характерную для рационалистической традиции. По мнению Э. Гуссерля, интенциональное отношение есть акт придания смысла, или значения, предмету. С феноменологической точки зрения это означает, что активное в своей основе сознание снабжает аморфную и бессвязную совокупность ощущений неким устойчивым единством, называемым смыслом, или значением. Гуссерль, таким образом, подчеркивает, что смысл еще и акт, он динамичен. И именно в этой связи философ говорит об интенциональном (смысловом) акте, подчеркивая факт утверждения, полагания, установления, наконец, конструирования смысла, а не его автоматическое присутствие в слове или сознании индивида. В итоге Гуссерль формулирует принцип познания как личной задачи: «Я не могу познавать в опыте, оценивать такой мир, который не имеет смысла и значимости во мне самом и из меня самого» [9; 78].
Усилиями последователей Э. Гуссерля была дана расширенная трактовка смысла. Так, М. Хайдеггер, с одной стороны, солидаризируется с Гуссерлем в том, что смысл не является свойством сущего, а устанавливается с участием человека. Сам смысл трактуется Хайдеггером как «то, в чем пребывает понятливость чего-либо», а соответственно, тот способ, каким человек присутствует в мире, определяется им как понимание. Но, с другой стороны, Хайдеггер объявляет истинно первым способом осмысления мира не интенциональность как акт придания смысла, а «заботу» [17; 67–68]. Согласно М. Хайдеггеру, смысл, хотя и является продуктом духовной деятельности субъекта, тем не менее не относится к его внутреннему обладанию; смысл постоянно рассеивается и потому подлежит непрерывно возобновляемому усилию быть раскрываемым и осуществляемым заново. В отличие от интенциональности, придающей вещам «смысловое единство», забота открывает вещи в их открытости смысловой незавершенности и бесконечного доопределения смысла1.
Продолжающий традиции феноменологической философии М. Мерло-Понти, подобно М. Хайдеггеру, также подвергает понятие ин- тенциональности радикальному пересмотру, что влечет за собой появление нового, отличного от гуссерлианского понимания смысла. В противоположность Гуссерлю, смысл, согласно Мерло-Понти, конституируется в некотором никогда не завершенном и никогда до конца не определенном опыте. Овладение смыслом, по словам Мерло-Понти, никогда «не может завершиться интеллектуальным овладением ноэмой» [13; 149]. В этом отношении понимание смысла французским автором во многом сходно со взглядами Хайдеггера. Согласно Мерло-Понти, не только мыслительные или чувственные способности, но само «тело» познающего субъекта как нечто единое участвует в придании смысла целому универсуму и является средством его понимания. Таким образом, в конституировании смысла участвует не только сознание, но и вся аффективно-смысловая сфера субъекта.
Интересную интерпретацию смысла мы находим у представителей постструктуралистской философии, и в частности у Ж. Делеза. Несмотря на то влияние, которое оказала феноменология на становление взглядов французского философа, свою собственную концепцию смысла Ж. Делез выстраивает на основе критики Э. Гуссерля. Так, в работе «Логика смысла» французский автор вслед за Мерло-Понти критикует гуссерлианское понимание смысла как ноэмы акта восприятия. Не претендуя больше на роль понятия, то есть на роль чего-то строгого и фиксированного, смысл трансформируется у Делеза в «событие», то есть нечто еще не ставшее, неотделимое от своего собственного становления [10; 123–124]. По Ж. Делезу, смысл существует не только и не столько в момент исполнения, сколько в момент его вновь-исполнения, иными словами, смысл постоянно требует продолжения (возобновления), он, выражаясь словами Ж. Делеза, сериален 2 .
Для рассмотрения природы смысла представляется важным обратиться не только к философским, но и к психологическим исследованиям. Проблема смысла занимает значительное место в западной психологии. Из многообразия теоретических подходов, существующих в зарубежной психологии, ограничимся анализом тех, в которых смысл выступает как высшая интегративная основа личности, характеризующая ее сущность. Речь идет о подходах Ф. Феникса, Дж. Ройса и А. Пауэлла, В. Франкла. В целом все вышеперечисленные авторы придерживаются точки зрения, согласно которой принципиальной особенностью человека является его направленность на поиск и реализацию смысла. Вместе с тем присутствуют и некоторые оттенки в их взглядах на конкретные представления о смысле и его воздействии на личность.
Из всех авторов, рассматривавших смысл как интегративную структуру личности, Ф. Феникс дает наиболее подробное аналитическое описание смысла, хотя определение смысла у него, как и у других, отсутствует. Он выделяет четыре параметра смысла: 1) переживание, рефлексивное самосознание, опосредующее поведенческие реакции; 2) логические принципы структурирования этого переживания; 3) выбор значимых смыслов из множества потенциальных комбинаций и разработка их в русле сложившихся в цивилизации традиций; 4) выражение смысловых структур посредством соответствующих символических форм [20; 22–25].
В понимании Феникса человек – это существо, отличительная особенность жизни которого заключается в обладании смыслами и основной целью которого является их созидание. Его постоянно волнуют желания, чуждые животному существованию. В действительности он стремится к смыслу и, осознает он это или нет, все его стремления, каков бы ни был их видимый объект, направлены на расширение и углубление смысла [20; 344]. В то же время Фениксу важно подчеркнуть, что смыслы являются общими в том смысле, что они обладают силой для всех. Любая смысловая структура является совместным способом понимания. В этой связи общность смысла – это принципиальная его характеристика.
Несколько иные соображения обнаруживаем мы в теории личности и индивидуальных различий, разработанной канадским философом и психологом Дж. Ройсом совместно с А. Пауэллом. Теория этих авторов начинается с постулата о том, что люди переживают свою жизнь в свете того, что они считают «осмысленным», то есть в свете индивидуальных подходов к жизни [21; 234]. Позиция Ройса и Пауэлла противоположна в этом отношении позиции Феникса. Если Феникс понимает смысл как нечто объективное, существующее в мире, то Ройс рассматривает его как субъективное видение, накладываемое на мир. Отсюда и понятие «личностного смысла». «Личностный смысл не есть нечто существующее во внешнем мире или противостоящее индивидам извне и диктующее, какой шаг им предпринять» [21; 8]. Человек, исходя из самого себя, наделяет мир такими смыслами и измерениями, которые согласуются с особенностями его личности.
В поиске личностного смысла человек сталкивается с мировоззренческими вопросами: в каком мире я живу? кто я такой? и т. д. Отвечая на эти вопросы, человек формирует свою картину мира, свой стиль жизни, образ своего Я. Личностный смысл оказывается тесно связан с мировоззрением человека. В течение жизни мировоззрение человека меняется, а вместе с ним изменяется и личностный смысл. В этой связи Ройс и Пауэлл подчеркивают, что если смысл реализован, то это не раз и навсегда. Авторы характеризуют личностный смысл как «видение, которое каждый из нас должен создавать заново» [21; 8]. Таким образом, смысл нельзя, раз получив, иметь у себя во внутреннем обладании. Постижение смысла, следовательно, не одноразовый акт, это вечный поиск в силу бесконечной сложности, неисчерпаемости открытости природы смысла.
Представляется, что определенным компромиссным сочетанием двух предшествующих подходов может считаться позиция В. Франкла. С одной стороны, Франкл заявляет, что необходимость в осмыслении действительности – это специфически человеческое, культурное явление, «так как животное никогда не бывает озабочено смыслом своего существования» [14; 14]. Но, с другой стороны, Франкл подчеркивает, что смыслы не изобретаются человеком, а присутствуют в самом мире, в объективной действительности. Эта кажущаяся парадоксальность мысли психолога разрешается, на наш взгляд, тем, что смыслы, если и даны человеку, то только как возможности, а реализовать эти возможности, то есть найти смысл и осуществить его, может только сам человек.
В этой связи осмысление, то есть осуществление смысла, – это процесс непростой и далекий от того, чтобы совершаться автоматически. Как замечает Франкл, осмысление не происходит с необходимостью естественного процесса (дыхание, принятие пищи и т. д.), но требует от человека проявления воли как некоторого личного усилия, требует от индивида постоянного принятия решения: желает ли он искать и осуществлять смысл в данной ситуации или нет.
Правильной постановкой вопроса является, согласно Франклу, не вопрос о смысле жизни вообще, а вопрос о конкретном смысле жизни данной личности в данный момент. Поэтому смыслы всегда уникальны, коль скоро уникальна каждая человеческая сущность, уникален и неповторим каждый текущий момент, который дает человеку возможность осуществить смысл.
Из закономерностей нахождения смысла человеком вытекают и специфические задачи и ограничения логотерапии. Никто, и логотерапевт в том числе, не может дать человеку тот единственный смысл, который он сам может найти в своей жизни, в своей ситуации. Однако логотера-пия ставит своей целью расширение возможностей человека видеть весь спектр потенциальных смыслов, которые может содержать в себе любая ситуация. Все, что мы можем делать, по Франклу, – быть открытыми для смыслов, сознательно стараться увидеть все возможные смыслы, которые предоставляет нам ситуация, и затем выбрать один, который, насколько нам позволяет судить наше ограниченное знание, мы считаем истинным смыслом данной ситуации [15].
Расширяя сказанное, обратим теперь внимание на то, что интерес современных отечественных психологов и педагогов, который сегодня сосредоточен на постижении не отдельных процессов психики человека, а на раскрытии его сущности, также вбирает в свое поле тему смысла. Наиболее развернутые исследования категории смысла и его производных в отечественной психологии ведутся в рамках деятельностного подхода. Рассмотрим эволюцию данного подхода в контексте интересующей нас смысловой проблематики.
Прежде всего, следует заметить, что еще Л. С. Выготский, считая недопустимым разведение аффективной и интеллектуальной сферы, указывал, что «существует динамическая смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов» [5; 20]. Однако, несмотря на то что разработка понятия смысла обнаруживается у Л. С. Выготского, традиционно истоки работ, посвященных проблеме смысла, относят к концепции личностного смысла А. Н. Леонтьева.
Категория «личностного смысла», который определялся как отражение в сознании личности мотива деятельности к цели действия, была введена А. Н. Леонтьевым для исследования одновременно в двух направлениях – сознания и личности. В рамках первого из них «личностный смысл» рассматривался как проявление смысловой составляющей сознания, указывающей на особую значимость для личности чего-либо из происходящего. «Человек, – писал Леонтьев, – в ходе своей жизни усваивает опыт предшествующих поколений людей, это происходит именно в форме овладения им значениями… Итак, психологически значение – это ставшее достоянием моего сознания (в большей или меньшей своей полноте и многогранности) обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия, знания или даже в форме умения или обобщенного “образа действия”, нормы поведения и т. п.» [11; 287–289]. Таким образом, значение есть всего лишь «отражение действительности независимо от индивидуального, личного отношения к ней человека» [11; 289]. Привнесение же такого отношения неизбежно порождает субъективное значение данного объективного значения. Чтобы избежать удвоения терминов, А. Н. Леонтьев ввел понятие «личностного смысла» как составляющей сознания (наряду с чувственной тканью и значением).
Переходя от определения личностного смысла как единицы сознания к рассмотрению личностного смысла в структуре личности, Леонтьев констатирует жесткую, подчиняющую связь смысла с мотивом. По мнению отечественного психолога, именно отношение мотива деятельности к цели действия порождает личностный смысл.
Надо сказать, что предложенная А. Н. Леонтьевым трактовка смысла задала своего рода фарватер для многих последующих дискуссий по проблемам смысла в отечественной психологии. Не вдаваясь сейчас в детали и перипетии этих дискуссий, отметим лишь то, что дальнейшее развитие концепции смысла в отечественной психологии пошло по линии ревизии теоретических построений А. Н. Леонтьева. В работах Б. С. Братуся, В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьева, В. А. Иванникова, В. И. Слободчикова происходит отказ от представления о жесткой, подчиняющей связи смысла с мотивом и все большее признание получает рассмотрение смысла, смысловой регуляции жизнедеятельности как основополагающей характеристики человеческого способа существования, конституирующей функции личности.
Так, Б. С. Братусь определяет смысл как «субъективно устанавливаемую и личностно переживаемую связь между людьми, предметами и явлениями, окружающими человека в пространстве и времени как текущих, так и бывших или предполагаемых событий» [2; 33]. Смысл, таким образом, предстает не как жестко заданный мотив, или предмет, или вещь, а скорее как вариативная связь между предметами, вещами, действиями, точнее, «вырабатываемый неспецифический личностный принцип этой связи, соединения, объединения рассыпанного, разрозненного» [2; 33-34]. Именно смысл обеспечивает сцепление отдельных действий в деятельность, поведение. Исключи мы смысл, мы получим «не полноценную деятельность, а полудеятельность или ее иллюзорноизвращенные формы» [3; 23].
Поскольку сущностная природа смысла определяется как связь между содержательными элементами мысли, явлений, событий жизни субъекта, то и сам смысл рассматривается как основание, которое скрепляет, конституирует внутренний мир человека, составляя «ядро» личности. В этой связи смысл и смыслотворче-ство рассматриваются в качестве онтологической единицы такого процесса, в котором воплощается человеческая сущность или в котором она рождается, если применять принцип экзистенциализма «существование предшествует сущности» (Ж.-П. Сартр).
Итак, обобщим сказанное и подведем некоторые итоги. Рассмотрение ряда подходов к проблеме смысла в рамках философских и психологических исследований позволяет выделить ряд общих положений, повторяющихся в разных концепциях у различных авторов.
Прежде всего, в содержании понятия «смысл» исследователями выделяется момент упорядоченности, связанности как его сущностная характеристика. В этой связи именно категория смысла наиболее точно и корректно отражает оформленность, целостность человеческого бытия.
Важным, на наш взгляд, является выделение исследователями особой области, смыслового пространства (поле мысли, по словам М. К. Мамардашвили), которое несводимо к измерениям биологического и психологического существования человека. Именно поэтому смысл представляет собою совершенно особую, специфически человеческую реальность, а участие человека в производстве смысла рассматривается как создание искусственной, артефактической конструкции, некоего «органа» усиления интеллектуальных и телесных (эмоционально-волевых) сил человека. Смысл, следовательно, выступает основанием изменений субъекта, воспроизводящих субстанцию личности.
Далее, следует выделить такую характеристику смысла, как уникальность и неповторимость, связанную со значимостью для субъекта определенных объектов, явлений, действий. Смысл поэтому можно определить как отношение между субъектом или явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению).
Наконец, немаловажной оказывается и такая сущностная характеристика смысла, как его открытость, принципиальная незавершенность. Постижение смысла поэтому представляет собой не одноразовый акт, а вечный поиск в силу бесконечной сложности, неисчерпаемости природы смысла.
Все выше сказанное позволяет нам ответить на вопрос о том, в чем состоит (а точнее, должна состоять) идейная направленность современного образования.
Прежде всего, в ориентации современного образования на целостное развитие личности, требующей не только ее знаниевой образованности, но и способности самостоятельно обустраивать свою собственную жизнь и наполнять ее собственными уникальными личностными смыслами. В этой связи, видимо, следует изменить ставшую уже банальной в наших образовательных учреждениях ситуацию, когда учащиеся воспроизводят одни и те же навыки (определенный их набор), действуют по ставшим уже традиционными схемам, воспринимая мир сквозь призму заданных извне концептуальных схем, то есть « длят себя » (М. К. Мамардашвили), имитируя образовательный процесс. Такое монотонное «дление» самих себя не побуждает к живой мысли. Действительное же образование личности связано как раз с прерыванием этого автоматизма дления себя. Только там, где само собой ничего не длится, могут завязаться новые точки роста: новый опыт, новое знание. Прерывание собственного дления осуществляется за счет выполнения «техник себя» (М. Фуко), или техник спасения, заботы о себе, которые осуществляются на самом себе, на своем теле, на душе, мыслях и поведении, и через них осуществляется трансформация субъективности, ее переиначивание [16; 432]. Субъект в процессе образования должен стремиться не к тому, чтобы какое-то знание пришло на смену его незнанию, говорит Фуко, а к тому, чтобы приобрести статус субъекта, которого он никогда не имел до этого.
Поскольку природу смысла, как мы постарались показать, характеризует момент незавершенности, открытости, то созидание смыслов в процессе образования должно стать основанием для постоянного внутреннего движения учащихся, ведущего к их самоизменению, самосовершенствованию в учебном процессе. Открытость и незавершенность смысла подразумевает возможность вновь и вновь возвращаться к однаж- ды уже усвоенным знаниям, пересматривать собственную точку зрения, быть восприимчивым к другим мнениям, позициям.
Смысл нельзя дать или создать за самого человека. Он всегда ищется и находится человеком в результате совершения волевых, экзистенциальных усилий3. В связи с этим должна измениться и стратегия деятельности учителя. Из носителя конечного, достигнутого знания он превращается в посредника между учеником и культурой, создавая особые поля напряжения и вовлекая учащихся посредством личного общения в ситуацию мысли. Позицию учителя в этой связи можно определить как позицию «учителя-психомайевта», того, кто помогает свершиться высвобождению чего-то нового к бытию – того, что может быть рождено только самим учеником, ибо лишь то, что создается, творится самим учеником, обладает для него смыслом.
Работа на уровне смыслов – нелегкий труд. Осмысленные знания, действия – результат напряженной внутренней работы. Не всегда встреча со смыслом оказывается легкой. Иногда она протекает болезненно. Но и за отказ от смысла и понимания приходится платить слишком дорогую – человеческую – цену.
Смысл должен войти «в кровь и плоть» самого образования, определив его структуру, логику действия учителя и стратегию организации всего образовательного процесса. Только тогда образование станет условием развития человеческого потенциала, а не человеческого ресурса.
Список литературы Философско-психологический и педагогический подходы к обоснованию категории «смысл»
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М.: Менеджер; Роспедагентство, 1994. 60 с.
- Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с.
- Велихов Е.Б., Зинченко В.П., Лекторский В.А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода//Вопросы философии. 1988. № 4. С. 3-32.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. 351 с.
- Гуссерль Э. Парижские доклады (1929)//Логос. Вып. 2. М., 1991. С. 6-30.
- Гуссерль Э. Феноменология: статья в Британской энциклопедии (1939)//Логос. Вып. 1. М., 1991. С. 12-21.
- Гуссерль Э. Амстердамские доклады II//Логос. Вып. 5. М., 1994. С. 7-24.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. 315 с.
- Делез Ж. Логика смысла. М.: Издательский центр «Академия», 1995. 298 с.
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1965. 495 с.
- Мамардашвили М.К. Обязательность формы//Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. С. 86-90.
- Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1996. 248 с.
- Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. 287 с.
- Франкл В. Воля к смыслу. М.: Апрель-Пресс, 2000. 368 с.
- Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. 448 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 450 с.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. 526 с.
- Baudrillard J. In the shadow of the silent majorities and other essays. N. Y., 1983.
- Phenix P. Realms of meaning: a philosophy of the curriculum for general education. New York etc: McGraw-Hill, 1964. XIV, 391 p.
- Royce J.R., Powell A. Theory of personality and individual differences: factors, systems and processes. N.-J.: Prentice Hall, 1983. 304 p.