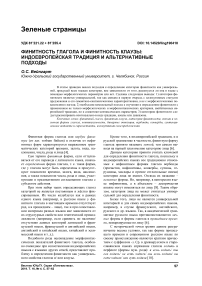Финитность глагола и финитность клаузы: индоевропейская традиция и альтернативные подходы
Автор: Вейнгарт Ольга Сергеевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 4 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ подходов к определению категории финитности как универсальной, присущей всем языкам категории, вне зависимости от того, реализуется ли она в языке с помощью морфологических параметров или нет. Сделаны следующие выводы: 1) категория финитности является универсальной, так как связана в первую очередь с иллокутивным статусом предложения и его семантико-синтаксическими характеристиками, а не с морфологическими показателями глагола; 2) необходим комплексный подход к изучению и определению финитности с применением не только морфологических и морфосинтаксических критериев, свойственных европейской традиции, но и семантико-синтаксических параметров; 3) категорию финитности следует рассматривать континуально в виде градации, шкалы или диапазона.
Финитный глагол, финитная клауза, категория финитности, личная и неличная формы глагола, континуальность, бинарные оппозиции, вербоиды, конвербы, сентенциальные актанты и сирконстанты, иллокутивная сила предложения
Короткий адрес: https://sciup.org/147232059
IDR: 147232059 | УДК: 81'221.22 | DOI: 10.14529/ling190410
Текст научной статьи Финитность глагола и финитность клаузы: индоевропейская традиция и альтернативные подходы
Финитная форма глагола или вербум фини-тум (от лат. verbum finītum) в отличие от нефинитных форм характеризуется выражением грамматических категорий времени, залога, вида, наклонения, числа, рода и лица [4].
Сам термин финитная форма, если отталкиваться от его перевода с латинского языка, означает определённая форма глагола, т. е. такая форма, где у глагола могут быть определены и присутствуют показатели времени, залога, вида, наклонения, а также показатели числа, рода и лица, участвующие в предикативном согласовании глагола с субъектом действия.
При этом набор таких определяющих глагол категорий не является постоянным и жёстко фиксированным. Их число колеблется как в рамках одного языка (например, в русском языке у финитного глагола в настоящем времени отсутствует род, а в прошедшем – лицо), так и при сопоставлении материала разных языков вне зависимости от их структурных свойств или генетической принадлежности (например, если сравнить по наличию/ отсутствию данных категорий латинский и французский языки, французский и английский языки, английский и китайский языки, китайский и эскимосский языки и т. д.).
Подобного рода несовпадение морфосинтаксических показателей финитного глагола, особенно очевидное при сопоставлении индоевропейских языков с языками других семей, представляет проблему в определении финитности как универсального свойства глагола и/ или клаузы.
Кроме того, в индоевропейской традиции, и в русской грамматике в частности, финитную форму глагола принято называть личной , тем самым выводя на первый план именно категорию лица [6].
Данную категорию принято считать ключевой для определения финитности глагола, поскольку в индоевропейских языках все традиционно относимые к нефинитным формам глагола вербоиды (причастия, инфинитивы, конвербы, супины, герундивы, масдары и прочие отглагольные имена) категории лица не имеют. Отсюда их название – неличные формы. Но, например, в венгерском языке инфинитивы, а в абхазском – деепричастия вполне могут изменяться по лицу [8]. Таким образом, категория лица не может считаться универсальной для определения финитности.
Более того, лицо не является универсальной категорией и для самих индоевропейских языков, например, в случае французского, английского, русского и др. языков. Так, в академической грамматике русского языка противопоставляются личные формы и формы глагола в прошедшем времени , немаркируемые по лицу [6].
С исторической точки зрения данное разграничение весьма условно, так как формы прошедшего времени в современном русском языке по своему происхождению являются кратким причастием с суффиксом -л . Ср. в древнерусском и старославянском языках спряжение глагола ходить в перфекте (формы муж. рода): я есмь ходилъ/ ты еси ходилъ/ он есть ходилъ/ мы есмь ходили/ вы есте ходили/ они суть ходили [10].
В сложных временах, как известно, по лицам всегда изменяется только вспомогательный глагол. В данном примере это вспомогательный глагол быти . Со временем он отпал, что и превратило русский перфект из сложного времени в простое. Оставшееся причастие (пусть даже бывшее) изменяться по лицам, конечно, не может. Во всяком случае, на данном этапе развития русского языка.
Рассмотренный пример эволюции форм прошедшего времени в русском языке не вписывается в традиционную оппозицию финитных (личных) vs. нефинитных (неличных) форм глагола, представляя собою некие промежуточные формы. Подобного рода примеры нередки и закономерны. Изменения на грамматическом уровне никогда не происходят внезапно, растягиваются во времени так, что привести языковые факты, собранные в определенный этап развития того или иного языка, к одному знаменателю не представляется возможным.
Таким образом, наличие промежуточных языковых фактов, не подпадающих под традиционное определение финитности vs. нефинитности, а также несовпадение морфосинтаксических показателей финитного глагола в различных языках и невозможность выделения какой-либо одной грамматической категории в качестве универсальной для определения финитности (например, категории лица) свидетельствуют о необходимости отказа от жёсткой дихотомии финитность vs. нефи-нитность в пользу более градуального подхода, который основывался бы на континуальном характере категории финитности.
Бинарность vs. Континуальность
Начиная со второй половины XX века, представление о континуальной организации языковых явлений и фактов приходит на смену традиционному делению на простые бинарные оппозиции. Введённое Н.С. Трубецким понятие бинарной оппозиции как «универсального средства рационального описания мира, где одновременно рассматриваются два противоположных понятия, одно из которых утверждает какое-либо качество, а другое – отрицает» [9] носит слишком обобщённый характер, в результате чего некоторые языковые факты оказываются как бы за пределами лингвистического описания. Континуальный подход в отличие от бинарного позволяет охватить весь спектр языковых фактов, распределяя их по условной шкале или континууму в зависимости от того, в какой степени в них проявляются признаки тех или иных свойств, категорий и пр.
Континуальный подход является сегодня актуальным не только применительно к категории финитности [4]. Он в полной мере отражает особенности естественного языка, объекты которого имеют «размытую» природу [5]. Размытость границ между языковыми объектами объясняется их неоднородностью, наличием ядерных элементов и периферии, будь то деление на морфемы и словоформы, частеречное деление или деление на финитные и нефинитные формы.
Применительно к градуальности категории финитности Т. Гивон предложил шкалу, на одном полюсе которой находятся глагольные маркеры времени, вида, модальности, а на другом – приименные определители. Между этими полюсами, в порядке убывания финитности, располагаются: 1) предикативное согласование с субъектом (лицо, род, число), 2) номинализация, 3) падежное маркирование субъекта и объекта [12].
По мнению Е.Ю. Калининой, подход Т. Гиво-на в основном имеет целью объяснить: 1) почему во многих языках допускается выражение финитных категорий в нефинитных клаузах (инфинитивных, причастных, деепричастных и пр.), 2) почему нефинитные предикации всегда будут маркированными по отношению к прототипическому финитному независимому предложению [2].
Ответ в обоих случаях кроется в морфологических показателях: с одной стороны, это редуцированный набор категорий времени, лица, вида и модальности, выражаемых нефинитными формами, с другой – редуцированный характер граммем данных категорий у нефинитных форм. Так, например, причастия в русском языке могут выражать категорию времени, но не имеют граммемы будущего времени, а также они не чувствительны к выражению лица и модальности. Наличие же показателей номинализации (например, падежные маркеры русских причастий), согласно Т. Гивону, автоматически характеризует предикат и клаузу в целом как нефинитные [2].
Таким образом, морфологический критерий (наличие грамматических маркеров) разграничения финитных и нефинитных форм является основным критерием их разграничения по шкале Т. Гивона. Однако данный критерий восходит преимущественно к европейской традиции, ориентированной на специфику флективных индоевропейских языков, что делает его малопригодным для отражения особенностей языков другого строя, например, алтайских агглютинативных или австроазиатских корнеизолирующих и др. Другими словами, морфологический критерий не является универсальным, так как не может быть применим к целому ряду языков.
Критерии финитности
Как уже отмечалось выше, ни в одном языке не существует универсального морфологического показателя, который бы чётко маркировал финитные и нефинитные формы. Даже категория лица, наиболее редкая среди всех категорий, способных выражаться нефинитными формами, не обладает здесь необходимой жёсткостью. В частности, в бурятском языке нефинитный предикат получает личное оформление [2] и т. д.
Данный факт говорит о необходимости при- менения комплексного подхода к разграничению финитных vs. нефинитных форм и применения помимо морфологического критерия (наличие грамматических маркеров) других параметров дифференциации этих двух типов форм.
К важнейшим параметрам финитности относится синтаксический критерий. В его основе лежит способность глагола оформлять клаузу (главную или зависимую в составе сложного предложения), т. е. его способность, с одной стороны, выступать в качестве предиката, а с другой – иметь свой собственный субъект действия.
Так, в материалах для проекта корпусного описания русской грамматики А.Б. Летучий в качестве ключевых параметров определения финит-ности vs. нефинитности на синтаксическом уровне называет: 1) способность оформлять главную клаузу, 2) способность иметь собственный субъект [4]. Характерным является тот факт, что финит-ность рассматривается на сайте проекта в разделе Синтаксические характеристики глагола . Данный факт является свидетельством в пользу окончательного выхода за пределы классического морфологического описания дихотомии финитности vs. нефинитности и фокусирует внимание на конституирующей роли глагола в предложении.
Тем не менее оба синтаксических критерия, так же как и морфологический, не приводят к чёткому разграничению финитных и нефинитных форм, а лишь распределяют их определённым образом на шкале финитности.
Так, из всех неличных форм в русском языке наиболее финитными по первому синтаксическому признаку – выступать в главной клаузе – оказываются инфинитивы. Ср.: рус. Тебе решать. А среди инфинитивов – формы сослагательного и повелительного наклонений. Ср.: рус. Свистать всех наверх! или Поспать бы тебе сейчас. Наименее финитными признаются формы деепричастий, которые, наоборот, не способны выступать в качестве сказуемого главной клаузы [4].
Что касается второго синтаксического критерия – способности иметь собственный субъект, то применительно ко всем индоевропейским языкам в большинстве работ по данной проблематике согласно данному критерию выделяют: 1) формы, способные иметь собственное подлежащее, маркированное номинативом, 2) формы, способные иметь собственное подлежащее, но оно не может иметь каноническое маркирование и выражаться именительным падежом, 3) формы, не способные иметь собственное подлежащее [4].
Среди форм, способных иметь собственное подлежащее, маркированное номинативом, наиболее типичны инфинитивы. Это наиболее финитные формы из всех неличных форм. Также к формам, способным образовывать данного рода конструкции, относят конвербы [13], но они используются сравнительно реже. Ср.: фран. Et moi de rire en breton afin que nul ne comprenne. – Засмеюсь по- бретонски, чтоб не понял никто (французское разговорное шутливое выражение) или рус. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищёлкивать перстами, и вертеться, подбочась, гордо в зеркальце глядясь (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане).
Формы, способные иметь собственное подлежащее, стоящее не в именительном падеже, более частотны по сравнению с предыдущими конструкциями. Подлежащее в них не может иметь каноническое маркирование и выражаться именительным падежом. Прежде всего это менее финитные, чем в первом пункте, инфинитивы в составе инфинитивных клауз, а также довольно часто встречаются различного рода причастия в составе абсолютных причастных оборотов. Такие нефинитные клаузы выступают в роли сентенциальных актантов или сирконстантов [7] в полипредикативных комплексах. Ср.: рус. Нужно купить им что-нибудь поесть. или лат . Autumno adveniete aves avŏlant. – Когда наступает осень, птицы улетают .
К формам, не способным иметь собственное подлежащее, относятся все конвербы, поскольку они почти всегда находятся в жёстком глагольном подчинении. К конвербам относят не только традиционно выделяемые конвербы в тюркских или кавказских языках, но и все другие вербоиды, находящиеся в подчинении финитного глагола главной клаузы [13]. Так, в западноевропейских грамматиках к конвербам мы относим герундий, в русском языке – деепричастие и т. д.
Таким образом, поскольку не все языки способны последовательно противопоставлять финитные и нефинитные формы глагола на морфологическом уровне, то на первый план в таких языках выдвигается критерий синтаксический. Однако и он не может быть признан достаточным для разграничения свойств финитных vs. нефинитных форм.
Альтернативный подход и семантикосинтаксический критерий
Как видно из приведенных выше примеров, в индоевропейских языках синтаксический критерий во многом совпадает с делением по морфологическому признаку, поскольку именно морфологические характеристики определяют синтаксические функции частей речи. В частности, только за глаголом в личной форме закрепляется право выражать значения предикативных категорий, отсюда его признание в качестве конституирующего элемента предложения [2]. Однако этот постулат оспаривался даже в рамках индоевропейской традиции, в том числе и отечественной, например, в работах В.В. Виноградова [1]. А если обратиться к материалу неиндоевропейских языков, то становится совершенно очевидным, что традиционные для европейских грамматик критерии финитности к ним либо слабо применимы, либо не применимы вовсе, как в случае с австроазиатскими языками.
Так, в китайском языке знаменательные слова вообще не имеют однозначной принадлежности к какой-либо определенной части речи. И само деление лексем на строго дифференцированные лексико-грамматические классы не представляется возможным в силу их функциональной лабильности и отсутствия морфологии (в классическом понимании данного термина с точки зрения европейской традиции). Отсюда появилась точка зрения, что ввиду своей специфики австроазиатские языки «едва ли позволяют говорить о финитности в любом смысле этого слова» [11].
Гипотетически слова в таких языках, как китайский, способны перемещаться по всем частеречным позициям [3]. Но они не перемещаются свободно, существуют ограничения в виде стилистической нормы и пр. Поэтому здесь правильнее говорить о диапазоне их перемещения, например, перемещение от позиции процессного глагола до позиции существительного, которое обозначает тот же процесс. Ср.: 游泳 yóuyǒng – плавать → 游泳 yóuyǒng – плавание или 画 huà – рисовать → 画 huà – рисование.
При этом каждый такой диапазон фиксируется словарем и соответствует примерно одному морфологическому значению, например, как в приведенном выше примере, где имя действия есть возможность употребления глагола [3].
Несмотря на отсутствие в таких языках как китайский привычных для индоевропейских грамматик показателей времени, вида, модальности, падежа и пр., в последние годы предпринимаются серьезные попытки описать финитность на материале данных языков [15] и доказать тем самым, что финитность является универсальным языковым явлением [14].
Так, в мандаринском диалекте китайского языка были выявлены ограничения на распределение ряда частиц, в частности ne, le и laizhe, которые могут встречаться лишь в некоторых типах встроенных, зависимых предложений [15]. Эти частицы являются так называемыми комплемен-тайзерами финитной клаузы [15], так как по сути участвуют в её оформлении. Ограничения на распределение данных частиц указывают на то, что они являются именно финитными маркерами и не могут употребляться в других типах встроенных предложений, которые соответствуют нефинитным клаузам, выступающим в роли сентенциальных актантов, сирконстантов и пр. в индоевропейских языках [15]. Кроме того, в данной работе утверждается, что финитные предложения более ориентированы на говорящего, в то время как нефинитные – на главную клаузу. Таким образом, финитность опирается на иллокутивный статус предложения и определяется в гораздо большей степени его семантико-синтаксическими свойствами, нежели наличием морфологических маркеров глагола [15], что и делает данную категорию универсальной для всех языков и специфичной для языка в целом [14].
Подводя итоги анализа подходов к определению финитности, можно сделать следующие выводы: 1) несмотря на то, что индоевропейская традиция последовательного противопоставления морфологических и морфосинтаксических параметров финитности vs. нефинитности глагола и клаузы является не универсальным эталоном, а лишь описанием, по сути, одного из возможных языковых типов, сама категория финитности – универсальна, так как связана с иллокутивным статусом предложения; 2) необходим комплексный подход к изучению и определению финитно-сти с применением не только морфологических и морфосинтаксических, но и семантико-синтаксических параметров; 3) категория финитности должна рассматриваться континуально в виде градации, шкалы или диапазона языковых единиц, исходя из структурных особенностей рассматриваемых языков.
Список литературы Финитность глагола и финитность клаузы: индоевропейская традиция и альтернативные подходы
- Виноградов, В.В. Исследования по русской грамматике: Избранные труды / В.В. Виноградов. - М.: Наука, 1975.
- Калинина, Е.Ю. Нефинитные сказуемые в независимом предложении / Е.Ю. Калинина. - М.: ИМЛИ РАН, 2001.
- Курдюмов, В.А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика / В.А. Курдюмов. - 2-е изд., стер. - М.: Цитадель-трейд, 2006.
- Летучий, А.Б. Русская корпусная грамматика. [Финитность]. - URL: http://rusgram.ru/ %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
- Плунгян, В.А. Общая морфология: Введение в проблематику: учебное пособие / В.А. Плунгян. - Изд. 2-е, испр. - М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Н.Ю. Шведова (гл. ред.). - М.: Наука, 1980.
- Сердобольская, Н.В. Синтаксический статус актантов зависимой нефинитной предикации: автореф. дис. … канд. филол. наук / Н.В. Сердобольская. - М., 2005.
- Тестелец, Я.Г. Введение в общий синтаксис: учебное пособие / Я.Г. Тестелец. - М.: Изд-во РГГУ, 2001.
- Трубецкой, Н.С. Классификация оппозиций. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой; пер. с нем. А.А. Холодовича. - М.: Аспект Пресс, 2000.
- Турбин, Г.А. Старославянский язык: учебное пособие / Г.А. Турбин, С.Г. Шулежкова. - Изд. 2-е, испр. - Магнитогорск: МГПИ, 1999.
- Bisang, Walter. Finite vs. non finite languages. / W. Bisang // In M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, and W. Raible (eds.), Language Typology and Language Universals, vol. 2. - Berlin: Mouton de Gruyter. 2001. - P. 1400-1413.
- Givon, T. Syntax: A functional-typological introduction II / T. Givon. - Amsterdam: John Benjamins. 1990.
- Haspelmath, M. The converb as a cross-linguistically valid category // In M. Haspelmath, E. König. (eds.) Converbs in cross-linguistic perspective. - Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1995.
- Klein, W. On Finiteness / W. Klein // In Veerle van Geenhoven (ed.). Semantics in Acquisition. - Dordrecht: Springer, 2006. - P. 245-272.
- Zhang, Ning. Sentence-final aspect particles as finite markers in Mandarin Chinese / Ning Zhang // Linguistics. - 2019. - Vol. 57, Iss. 5. - P. 967-1024.