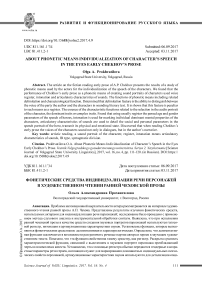Фонетические средства индивидуализации речи персонажей в художественном чтении ранней чеховской прозы
Автор: Прохватилова Ольга Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Проблема интонационной выразительности актера рассматривается на материале художественного чтения ранней прозы А.П. Чехова. Представлены результаты изучения фонетических средств, используемых актерами для индивидуализации речи персонажей; исследование было проведено с применением метода слухового анализа и инструментальной обработки синтагм. Выявлено, что при исполнении ранней чеховской прозы в качестве средств создания звуковых портретов персонажей используются голосовой регистр, интонация и артикуляционные характеристики звуков. Установлены функции, которые выполняются фонетическими средствами: делимитативная и характерологическая. Определено, что делимитативная функция заключается в возможности разграничить речевые партии автора и героев в звучащем художественном тексте. Показано, что эта функция свойственна такому средству, как регистр. Раскрыта сущность характерологической функции, связанной с выделением в звуковом портрете персонажа преобладающей черты или комплекса качеств. Установлено, что с помощью регистра обычно передаются гендерные и возрастные параметры речи героев, интонация служит для маркирования доминантных индивидуальных психических свойств персонажей, артикуляционные характеристики звуков используются для детализации социльных и личностных параметров в речевом портрете героя, передачи его физического и эмоционального состояния. Обнаружено, что при чтении ранней чеховской прозы голоса персонажей звучат не только в диалогах, но и в авторском повествовании.
Художественное чтение, звуковой портрет персонажа, регистр, интонационные средства, артикуляционные характеристики звуков, тип ик, синтагматическое членение
Короткий адрес: https://sciup.org/14970329
IDR: 14970329 | УДК: 811.161.1’34 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.4.9
Текст научной статьи Фонетические средства индивидуализации речи персонажей в художественном чтении ранней чеховской прозы
«L^ §н
DOI:
Цитирование. Прохватилова О. А. Фонетические средства индивидуализации речи персонажей в художественном чтении ранней чеховской прозы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 111–120. – DOI:
Введение. Художественное чтение характеризуется «таким разнообразием и сгущением интонационно-звуковых перевоплощений, которые возможны лишь в актерской речи и вызваны потребностями исполнения» [Брыз-гунова, 1984, с. 73]. Это объясняется спецификой театра одного актера, которая состоит в том, что выразительность исполнения ограничена и вся она сосредоточена в звуке. Как пишет Е.Ф. Саричева, «грим, костюм, свет, декорации, реквизит – все, что дополняет выразительные средства актера в спектакле, отсутствует в искусстве чтеца, и отсутствие этого должно быть компенсировано чтецом яркостью и образностью слова» [Саричева, 1955, с. 63].
Главным принципом создания образов персонажей в художественном чтении является строгая индивидуализация их речи путем закрепления за каждым из героев определенного набора интонационно-звуковых средств. Исполнитель должен добиваться «тонального единства» образа, постоянства его звуковой характеристики на протяжении всего литературного произведения [Артоболевский, 1978, с. 104; Закушняк, 1984, с. 33]. При этом индивидуализация звукового облика персонажа основывается на выделении в его характере преобладающей черты (или комплекса черт), что позволяет актеру избежать расплывчатости создаваемого образа [Артоболевский, 1978, с. 103].
Изучение приемов актерской речевой выразительности в сценической речи, разновидностью которой является и художественное чтение, ведется лингвистами и искусствоведами. Однако основное внимание театроведы и языковеды традиционно уделяют рассмотрению вопросов, связанных с орфоэпической и дикционной харáктерностью сценической речи (см.: [Иванова-Лукьянова, Па-уфашима, 1986; Кузнецова, 1976; Промптова,
1972; Савкова, 1982; Фрид, 1979 и др.]), проблемы интонационной выразительности актера изучены недостаточно полно (см.: [Брыз-гунова, 1986; Труфанова, 1986; Чалова, 2006 и др.]). Данная работа отчасти восполняет этот пробел.
Методика. В качестве основного метода использовался слуховой анализ, с помощью которого определялись типы ИК, место интонационного центра, синтагматическое членение, различия нейтральных и эмоциональных реализаций ИК, артикуляционные изменения звуков, темпоральные характеристики и изменения интенсивности звучания. Вспомогательным средством служила усложненная интонационная транскрипция, отражающая все многообразие варьирования интонационно-звуковых средств в актерских интерпретациях чеховских рассказов.
Для установления основных акустикофонетических параметров звучащих текстов и уточнения результатов слухового анализа часть синтагм подвергалась инструментальной обработке с помощью таких программ, как UV Sound Recorder 2.4, AudioRecorder 32, WinCECIL-2.2, Speech Analyzer 3.1.
Важнейшим приемом исследования являлось сопоставление различных исполнений одного литературного произведения, что спо- собствовало максимальному выявлению средств интонационно-звуковой детализации образов персонажей и уточнению функциональной специфики этих средств.
Результаты и обсуждение. По нашим наблюдениям, при исполнении ранней чеховской прозы актеры используют для индивидуализации речевых портретов персонажей такие средства, как голосовой регистр, интонация, артикуляционные характеристики звуков.
1. Наиболее частотным средством выступает голосовой регистр. Учитывая существующую неоднозначность толкования этого термина в искусствоведческой и лингвистической литературе, считаем возможным уточнить, что в данной работе под регистром понимается часть диапазона речевого голоса, в рамках которого происходит интонационно-звуковое варьирование, связанное с передачей смыслового и эмоционального содержания речи.
Регистр представляет собой индивидуальную окраску голоса человека и является одним из наиболее характерных свойств речи. Например, по данным И.И. Левидова, итальянцы в старину включали в паспорт информацию о нем в числе особых примет [Левидов, 1939, с. 84].
Традиционно выделяются верхний, средний и нижний регистры, а также фальцет – очень высокий звук обычно мужского голоса, в образовании которого принимают участие только края голосовых связок (см., например: [Иванов, 2006, с. 76]).
– ↑ Что ты вы2думал? / Заче2-3м мне домой? / Ведь еще и оди(/)ннадцати часо3-2в нет! /
– ↓ Я желаю, и ба 2 ста! / Изволь идти 2 / – и всё 2 тут. /
– ↑ Ну, перестань выдумывать глу3-2пости! / Ступай са1м, если хочешь. /
– ↓ Ну, так я сканда 2 л сделаю! /
Диалог сестер Володи Королева и Чече-вицына из рассказа «Мальчики» О. Табаков тоже строит на контрасте верхнего (девочки) и нижнего (Чечевицын) регистров. Ср.:
Чечеви6цын ( / ) весь день сторонился де6во-чек / и глядел на них исподло1бья. / После вечернего чая случи6лось / , что его минут на пять оставили одного2 с девочками. / Неловко было молча1-2ть. / Он сурово ка4шлянул, / потер правой ладонью левую ру4ку, / поглядел угрюмо на Ка6тю / и спро-си1л: /
– ↓ Вы чита4ли Майн Рида? /
– ↑ Не(/)т, не чита1ла. / Послу2шайте, / вы уме3ете на коньках кататься? /
Однако не всегда такое распределение регистров является обязательным. Так, Н. Журавлев при чтении рассказа «Муж» речь акцизного Шаликова выделяет нижним регистром, а реплики его жены произносит в среднем регистре, например:
– Что т ы в ы 2 думал? / – начала она1. / – За ч е (/) м мн е д омой? / Ведь еще и одиннадцати часо 2 в нет! /
– ↓ Я жела 1 ю, / и ба 1 ста! / Изволь идти 1 / – и всё 1-2 тут. /
– Перест а 1нь / выдумывать гл у 2пости! / Ступай са1м, если хочешь. /
– ↓ Ну, так я сканда 6 л сделаю! /
А. Папанов, читая рассказ «В потемках», использует нижний регистр для создания женского образа – кухарки Пелагеи, при этом слова автора произносятся в среднем регистре, речевая партия надворного советника Гагина ведется в верхнем регистре, а его жены Марии Михайловны – на фальцете, например:
Товарищ прокурора ме(|)дленно подня6лся / и сел на крова6ти, / оглашая во6здух / зевка1ми. /
– ↑ Чё(/)рт вас зна2ет, / что(/) вы за наро2д! – пробормотал он. / – Неуже(6)ли даже н о 2-3чью нет покоя? / Бу(/)дят из-за пустяко2в! /
– Δ Но кляну2сь тебе, Бази(/)ль, / я видела, как челове(/)к полез в окно3-2! /
– ↑ Ну так чт о 2-3 же? / И пу2-3сть лезет... / Это, по всей вероятности, к Пелагее ее пож а 2-3рный пришел. /
– Δ Что-о-о4? / Что(/) ты сказ а 6л? / <...>
Войдя в ку4хню, / он направился к тому ме(3)сту, где на сундуке, под по6лкой с кастрюлями, / спала куха1рка. /
– ↑ Пе-ла-г е 2 я ! – начал он, нащупывая плечо и толкая. / – Ты2! / Пелаге2я! / Ну, что представля2ешь-ся?/ Не спи2шь ведь! / Кто это [ш:’a]с ле2з к тебе ... в окно(/)? /
– ↓ Гм!.. здра2сте! / В окно2 лез! / Кому2 это лезть? /
А. Миронов, исполняя этот рассказ, женские образы озвучивает в верхнем регистре, мужской – в нижнем, слова автора произносятся в среднем регистре, например:
Товарищ прокуро3ра / медленно подня6лся / и сел на крова6ти, / оглашая во6здух / зевка1ми. /
– ↓ Че2-3рт вас знает, / что вы за наро2д!– пробормотал он. / – Неужели даже но2чью ... нет покоя?/ Бу3дят / из-за пустяко2в! /
– ↑ Но кляну2сь тебе, / Баз и 2ль, / я ви2дела, / как челове(6)к поле(6)з в окн о 2! /
– ↓ Ну так что2 же? / Пу(3)сть ле2зет... / Это, по всей вероя(3)тности, к Пелаге3е / ее пожа2р-ный пришел. /
– ↑ Что6? / Что ты сказа4-6л?/<...>
Войдя в ку3хню, / он направился к тому ме6сту, / где на сундуке6, / под по6лкой / с кастр6лями, / спала куха1рка. /
-
– ↓ Пелаге2я! / Пелаге2я! – начал он / , нащупывая плечо(6) и толка1я. / – Ты3! / Пелаге2я! / Ну, что(/) представля2ешься? / Не спи2шь ведь! / Кто2 это / сейчас ле2з к тебе / в окно2? /
-
– ↑ Гм!.. здра2сте! / В окно3 лез! / Кому3 это / ле2зть-то? /
-
2. Наряду с регистром для создания звуковых портретов персонажей в художественном чтении используется и интонация, которая в данной работе понимается как система средств, включающая тип интонационной конструкции (ИК), синтагматическое членение, место центра ИК и паузу.
Вероятно, отсутствие жесткой закрепленности верхнего регистра за женскими персонажами, а нижнего – за мужскими в художественном чтении связано с тем, что не только певческие, но и речевые мужские и женские голоса могут быть высокими (тенор, сопрано), средними (баритон, меццо-сопрано) и низкими (бас, альт).
Материал, имеющийся в нашем распоряжении, дает основания утверждать, что тип регистра является постоянной характеристикой звукового образа персонажа и, как правило, остается неизменным при чтении рассказа, с его помощью передаются гендерные и возрастные (взрослый – ребенок) параметры речи героев.
Кроме характерологической, регистр выполняет и делимитативную функцию: имен- но регистровые изменения позволяют отделить слово автора от речи героев, провести границы между репликами персонажей, принимающих участие в диалоге.
Интонация используется в художественном чтении в характерологической функции. По нашим наблюдениям, звуковые образы персонажей индивидуализируются исполнителями вследствие преимущественного использования тех или иных типов ИК и способов синтагматического членения, варьирования места центра ИК в сочетании с определенными темпоральными и динамическими характеристиками речи.
Так, в звуковом портрете главного героя рассказа «Ванька», прочитанного И. Ильинским, преобладают следующие интонационные средства:
– неярко выраженные реализации ИК-3, ИК-2 и переходные типы ИК-32 (79 % от общего объема), сближающихся по своим тональным признакам и создающим эффект монотонии речи, свидетельствующей об утомлении, депрессии говорящего (см., например: [Никонов 1978, с. 148]);
– эмоциональные реализации ИК-2W, ИК-3W и ИК-32W с изрезанным контуром в пределах гласного центра с одновременным его удлинением, придающие речи жалобный оттенок;
– ИК - 3 со значением просьбы при оформлении императивных конструкций;
– крупные синтагмы (от 8 до 20 слогов) с центром на последнем слоге (37 % от общего объема), в которых диапазон движения основного тона в прецентровой части значительно сужен и варьируется в пределах 60 кГЦ (в 2 раза меньше нормы), что усиливает монотонность звучания речи героя;
– внутрисинтагменные паузы, свидетельствующие о нерешительности героя;
– сниженная интенсивность звучания, подчеркивающая робость Ваньки. Например:
...А вчерась мне была6 / вы(2)волочка. / Хозяин вы(/)волок меня за волосы во дво(3)р / и отчесал шпа1ндырем / за то, что я ... качал ихнего ребя-те(3)нка, / в лю2льке / и по неча(3)янности / засну1-2л. / А на неделе хозяйка велела мне ... почистить сел е 3-2wдку / а я начал с хвост а 3w, / а она взяла3 селедку / и ейной мо(3)рдой / начала меня в х а 2wрю тыкать. / Подмасте(3)рья надо мной ... насмех а 3-2wются, / посылают в кабак за в о 3-2wдкой / и велят красть у хозяев огурц ы 2w, / а хозяин бье (3) т чем попадя. / А еды нету никако1й. / Утром дают хл е 3wба, / в обед к а 3wши, / к вечеру т о 3wже хлеба, / а чтоб чаю или щ е 3wй, / то хозяева с а 3-2wми трескают. / А спать мне велят в сен я 2wх,/ а когда ребятенок ихний пл а 3wчет, / я в о 2wвсе не ... сплю, / а качаю л ю 2wльку. / <...> Милый де2душка, / а когда ... у господ будет елка с гости3нцами, / возьми3 мне // золоченный оре 2 х / и(6) ... в зеленый сундучо3-2к спрячь. / Попро-си3 у барышни / Ольги Игна2тьевны, / скажи, для В а 2wньки. /
Концентрация в речевой партии героя названных интонационных средств помогает исполнителю воспроизвести образ робкого, застенчивого, подавленного тяжелыми обстоятельствами жизни мальчика.
При чтении рассказа «В потемках» актеры А. Папанов и А. Миронов в качестве основных средств создания звукового портрета Василия Прокофьевича Гагина используют различные реализации ИК-2 и разные варианты синтагматического членения. При этом образы этого персонажа в их актерских интерпретациях рассказа диаметрально противоположны.
Так, А. Папанов рисует своего героя мягким, добродушным человеком. Отсюда – переходные типы ИК-2, двувершинные ИК-2 и эмоциональные реализации ИК-2 с удлинением гласного центра, в которых категоричность ИК-2 нейтрализована; а также членение речевого потока на средние и крупные синтагмы, благодаря чему достигается впечатление плавной речи. Например:
– ↑ Э(/)кая доброде2тель, / посмо2тришь... / Не потерплю цини2зма... / Да нешто это цини3зм? / К чему бе(/)з толку заграничными слова2 " ми-то выпаливать? / Это, матушка моя, испокон в е 2ку так ведется, / трад и 2-3цией освящено. / На то он и пож а 2рный, // чтоб к кух а 1-2ркам ходить. / ...
В приведенном фрагменте только в одной синтагме употреблена ИК-3, во всех ос- тальных используется ИК-2. При этом из 8 синтагм, оформленных по типу ИК-2, в 6 случаях представлены модальные, переходные или двувершинные реализации этой интонационной конструкции. Средняя длина синтагмы составляет 9 слогов.
В интерпретации А. Миронова Василий Прокофьевич Гагин резок, несдержан, высокомерен. Этот эффект создается за счет преобладания «категоричных» ИК-2 и дробного синтагматического членения, например:
– ↓ Э2кая доброде(/)тель, / посмо3тришь... / Не потерплю(6) цини2зма... / Да нешто это цини3зм? / К чему бе2з толку / заграничными слова2ми-то выпаливать? / Э2то, матушка моя, / испокон ве2ку так ведется, / тради2цией освящено. / На то он и пожа1-2рный, / чтоб к куха2ркам ходить. / ...
Как показывает транскрипция, из 11 синтагм в этой реплике героя 8 оформлены по типу нейтральных реализаций ИК-2. Средняя длина синтагмы составляет 7 слогов.
Отметим, что различия в осмыслении этого образа в исполнительских вариантах рассказа становятся возможными в условиях отсутствия прямых авторских оценок персонажа, что обусловлено объективным характером чеховского повествования (подробнее см.: [Прохватилова, 2016, с. 74–81]).
-
3. Для создания звуковых портретов персонажей в художественном чтении может быть использовано и такое средство, как артикуляционные характеристики звуков, варьирование которых формирует определенные характерологические параметры речи. Вслед за Е.А. Брызгуновой, мы будем различать три типа таких звуковых изменений.
Во-первых, это позиционное варьирование звуков, обусловленное сосуществующими вариантами произношения. Оно позволяет противопоставить официальное и разговорное, литературное и диалектное, литературное и просторечное, нейтральное и эмоциональное звучание [Брызгунова, 1986, с. 151].
Во-вторых, это «различия по степени выраженности какой-либо артикуляционной характеристики звука в определенной позиции, например: более задняя или более передняя артикуляция гласного в определенной позиции; большая – меньшая мускульная напряженность гласного; большее – меньшее расширение глотки при произношении твердых и мягких согласных, большая – меньшая лабиализация, большее – меньшее опускание или поднятие гортани при произношении одно и того же звука и др.» [Брызгунова, 1986, с. 152].
В-третьих, это «различия некоторых артикуляционных характеристик, стоящих вне системы фонологических противопоставлений ... например, назализация гласных и согласных, придыхательность, твердый приступ гласного, лабиализация согласных и др.» [Брызгунова, 1986, с. 152].
По нашим наблюдениям, звуковые изменения разных типов используются в художественном чтении для детализации социальных и личностных параметров речевого портрета персонажа, передачи его физического и эмоционального состояния, эмоциональных реакций героя.
Например, А. Папанов, читая рассказ «В потемках», усиливает социальный аспект образа кухарки Пелагеи, насыщая ее речь такими элементами диалектного произношения, как:
– полумягкий [ч ∙ ] ( му[ч ∙ ]аешься, бега-ю[ч ∙ ]и; другой [ ч ∙ ]ести ни от кого не видишь );
– усиленная редукция (вплоть до нуля звука) гласных в безударных слогах ( с такими сл[ъ]вами );
– стяжение гласных в окончаниях глаголов ( покоя не зн[аш] );
– фрикативный [γ] ( [γ]рех вам, барин; [γ]оспода образованные ... бла[γ]ородные; при [γ]оpe-то нашем );
– отсутствие оглушения согласных в позиции конца слова (я у купцо[в] жила, да такого сраму не видывала ).
В интерпретации рассказа «Мальчики» М. Бабанова использует продвижение артикуляции гласных назад, сопровождаемое незначительным опусканием гортани в сочетании с замедлением темпа, для передачи оттенка надменности в речи замкнутого и сдержанного Чечевицына, например:
– ↓ ← А также инде2йцы нападают на поезда. / Но ху6же всего / это москиты и терми2ты. /
– ↑ А это что2 такое? /
– ↓ ← Э3то // вроде мура2вчиков, / только с кры2льями. / О7чень сильно кусаются. / Зна3ете, кто я? / ...
А. Грибов при чтении рассказа «Ванька», следуя авторским ремаркам ( Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул ), передает эмоциональное состояние главного героя за счет резкого повышения регистра с одновременным напряжением гортани при разведении и ослаблении голосовых связок, что создает впечатление дрожащего голоса:
... ↑ А ежели думаешь, что до3лжности мне нету, / то я Христа ра(/)ди попрошусь к приказчику сапоги2 чистить, / али заместо Фе3дьки / в подпа1ски пойду. / Δ Д е 2душка / ми(/)лы5й, / не(/)ту никако(/)й возмо5жности, / просто сме2рть одна. / Хотел было пешко3м на деревню бежать, / да са-пого6в нету, / моро6зу боюсь. / ...
Для индивидуализации звукового образа золотых дел мастера Хрюкина (рассказ «Хамелеон») актер И. Москвин использует различные типы звукового варьирования: 1) усиленную редукцию безударных звуков, особенно в заударных слогах, например: ...и вдруг / [э´тъ] черт / [э´тъ] подлая / ни с того ни с сего / за палец / ... (при этом возникает стилистический оттенок разговорности); 2) нечеткость артикуляции звуков (для передачи физического состояния персонажа, которое обозначено у Чехова следующим образом: на полупьяном лице его... ); 3) неполное смягчение согласных перед [э], например: . ..работа у меня / [м ∙ э´]лкая/... (для создания оттенка манерности в речи Хрюкина); 4) назализацию звуков в сочетании с повышением регистра (для передачи эмоционального оттенка обиды в речи героя), например: ... ↑ [ę]же-ли к[ą]ждый будeт кус[ą2] ться, / ну что2 жe / это лу(6)чшe нe жить на св[ę2]те / ...
Обычно звуковые изменения разных типов, способствуя максимальной индивидуализации речевой партии персонажа, дополняют регистровые и интонационные характеристики.
Многообразие звуковых образов в художественном чтении становится возможным благодаря варьированию соотношений разных типов регистровых, интонационных и артикуляционных параметров речи персонажей. Так, основу звуковых портретов двух героев рассказа «Мальчики» в исполнении О. Табакова составляет нижний регистр. Однако детали- зация речевых партий Ивана Николаевича Королева и Чечевицына обеспечивается варьированием привлекаемых актером интонационных и артикуляционных средств.
В интерпретации О. Табакова Иван Николаевич – это шумный, бурно выражающий свои чувства, эмоционально подвижный, открытый человек. Для создания такого образа средства интонации отбираются актером по принципу контраста: в пределах одной реплики могут следовать одна за другой короткая и длинная синтагмы, медленный темп речи сменяться быстрым, громкая речь – тихой, плавные мелодические охваты – интонационными типами с акцентным выделением одного слога. Такие контрастные изменения интонационных средств можно наблюдать, например, в следующем фрагменте:
– ↓ Ну, во-о (6) т ( / ) ско-о (/) ро и Рождество-о 1-2 " ! – говорил нараспев отец, крутя из темнорыжего табаку папиро1су. / – А давно ли было ле4то / и мать пла4кала, тебя провожаючи? / Ан ты и прие 6 хал / . Вре-е6мя, бр ат ,( / ) идет бы-ы 1 ст-ро! / Ахнуть не успе-е 6 ешь, / как ста-а 1 рость придет. / Господи2н Чибисов, / ку2шайте, / прошу вас, не стесня2йтесь! / У нас по2просту! /
В звуковом портрете Чечевицына актером сделан акцент на таких чертах, как деловитость героя (отсюда – «официальные» ИК-4 в сочетании с быстрым темпом речи), его внутренняя собранность и сдержанность (отсюда – короткие синтагмы, употребление неярко выраженных типов ИК, однообразие в интонационном оформлении). Например:
– ↓ Вы чита4ли Майн Рида? /
<...>
– ↓ А также инде3-2йцы нападают на поезда. / Но ху6же всего / это моск3иты / и терми1ты. /
– ↑ А что это тако4е? /
– ↓ Это вроде мура2вчиков, / только с кры2ль-ями. / Очень сильно куса2ются. / Знаете, кто4 я? / ...
Имеющийся в нашем распоряжении материал показывает, что голоса персонажей при чтении ранней чеховской прозы звучат не только в диалогах при воспроизведении прямой речи, но и в рамках авторского повествования. Это становится возможным благодаря актуальному для ранней прозы А.П. Чехова приему включения слова героя в авторское повествование – несобственно-прямой речи [Прохватилова, Фотина, 2016].
По мнению чеховедов, она является одним из основных компонентов художественной системы писателя [Кожевникова, 2011; Чудаков, 1971 и др.] и позволяет реализовать важнейший для поэтики писателя принцип объективности, когда из повествования устраняется авторское «я» и на первый план выдвигается голос героя, вследствие чего окружающий мир изображается «сквозь призму конкретно воспринимающего сознания» персонажа [Катаев, 1979, с. 44]. При этом создается так называемая «психологическая атмосфера текста с позиций определенного лица» [Еремина, 1983, с. 110], а «объективный авторский контекст пропитывается словами, оценками героя» [Кожевникова, 2011, с. 55] .
При реализации в художественном чтении повествование такого типа потенциально допускает звуковые перевоплощения в рамках внешне монологических конструкций. Наличие в повествовании несобственно-прямой речи позволяет исполнителю, следуя за автором литературного произведения, менять, по выражению А. Закушняка, «плоскости сознания», то есть характерные интонационные планы, присущие рассказчику или персонажу [Закушняк, 1984, с. 205], и освещать события то с точки зрения одного, то с точки зрения другого говорящего, отражая это в системе фонетических средств [Про-хватилова, 2012].
В нашем материале переключение повествования в план героя осуществляется путем воспроизведения интонационно-звуковых характеристик речи персонажа в границах авторской речи. Так, в следующем отрывке из рассказа « В потемках » , прочитанного А. Папановым, сигналом перевода повествования в план героини становится фальцет, на который переходит актер, в сочетании с эмоциональными реализациями ИК-32 и ИК-23:
Тишину(6) нару(6)шила сама(/) Марья Михайловна. / Стоя у окна(6) / и глядя на дво6р, / она вдруг вскри2кнула. / Ей показа3лось, / что от цветника6 / с тощим стриженым то2полем / пробира(6)лась к до(6му какая-то 4 те(/)мная фигу 2 ра. / А Сначала она думала, что это коро3-2ва / или ло3-2шадь, / пото3м же, / протерев глаза3-2, / она стала я(6)сно различа(6)ть челове(/)ческие ко2-3”нтуры. /
В исполнительском варианте А. Папанова комбинация названных средств составляет основу звукового портрета Марьи Михайловны. Ср.:
« А Тем ху3-2же! - вскрикнула Марья Миха2й-ловна. / Это хуже во2ра! / Я не потерплю(3) в своем до(6)ме цини3-2зма!»;
« А Не2т, Базиль! / Значит, ты не зна3"2ешь меня! / Я не могу допустить мы3сли, / чтоб в мое(/)м до3 ↑ ме / и тако3 ↑ е... / э3 ↑ такое... / Изволь отправиться сию минуту на ку(4)хню и приказать ему убира2-3ться!».
Как показывает анализ, при чтении рассказов А.П. Чехова интонационно-звуковые перевоплощения, связанные с изменением фонетических характеристик речи, оказываются возможными не только в рамках несобственно-прямой речи, но и при описании внешности, действий персонажа. Так, в отрывке, который содержит портретную характеристику одного из героев рассказа «Мальчики», понижение регистра, сопровождаемое дробным синтагматическим членением и оформлением большинства неконечных синтагм по типу ИК-4 (ИК-46), в исполнении О. Табакова выделяет в повествовании «голос» сдержанного, немногословного Чечевицына:
Три сестры3 Володи, / Ка(/)тя, Co(/)ня и Ма3ша / – самой старшей из них было одиннадцать ле3т / – сидели за столо6м/ и не отрыва(6)ли гла(6)з от но(6)вого знако1-2мого. / ↓ Чечеви4-6цын / был такого же возраста и роста, как Воло2дя, / но не так пухл и бе4-6л, / а ху4-6д, / сму4-6гл, / покрыт весну1шками. / Во3лосы у него / были щети4нистые, / глаза3 / у4зенькие, / гу3бы / то1лстые, / ↑ вообще был он очень некраси6в, / и если б на нем не было гимназической ку3ртки, / то по нару3жности / его можно было бы принять за кухаркина сы1на. /
Системные интонационно-звуковые перевоплощения в описательных структурах текста наблюдаются и в рассказе «Хамелеон», прочитанном И. Ильинским. Ср.:
Через база(3)рную пло6щадь / иде(6)т поли-цей(3)ский надзира6тель / ↓ Оч у м е 2л о в / / в н о в ой ш и не 4л и / и с у з ел к о м в ру к е1. / ↑ За ни(3)м шагает ↓ рыж и й г ор о до в о3 й / с р е ш е т о2 м , / д о 6в е р ху / н а-по 6 лн е нн ы м / к о нф и с ко (6 )в а н ны м к р ы ж о 2 вн и ком. / ↑ Круго6м / тишина1... /
Из транскрипции видно, что сначала в авторском повествовании появляется «голос» облеченного властью, важного Очумелова: в третьей синтагме понижается регистр, замедляется темп и вместо «разговорных» ИК-3 и «повествовательных» ИК-6 появляются «категоричная» ИК-2 и «официальная» ИК-4. Далее регистр повышается, и в повествование снова включается автор, но не надолго – в рамках этой же синтагмы следует резкое понижение регистра, сопровождающееся замедлением темпа речи, и мы слышим «голос» городового. Наконец, после очередного регистрового переключения автор-повествователь продолжает свой рассказ.
Выводы . При исполнении ранней чеховской прозы в качестве фонетических средств создания звуковых портретов персонажей используются голосовой регистр, интонация и артикуляционные характеристики звуков. Ведущим средством выступает голосовой регистр.
Выявленные фонетические средства выполняют делимитативную и характерологическую функции. Делимитативная функция заключается в возможности разграничить речевые партии автора и героев в звучащем художественном тексте. Эта функция свойственна такому средству, как регистр.
Характерологическая функция фонетических средств связана с выделением в звуковом портрете персонажа преобладающей черты или комплекса черт. С помощью регистра обычно передаются гендерные и возрастные параметры речи героев. Интонация служит для маркирования доминантных индивидуальных психических свойств героев за счет преимущественного использования тех или иных типов ИК и способов синтагматического членения, варьирования места центра ИК в сочетании с определенными темпоральными и динамическими характеристиками речи. Артикуляционные характеристики звуков используются для детализации социальных и личностных параметров речевого портрета персонажа, передачи его физического и эмоционального состояния.
Проведенный анализ дает возможность утверждать, что при чтении ранней чеховской прозы голоса персонажей звучат не только в диалогах при воспроизведении прямой речи, но и в рамках авторского повествования на участках текста, включающих несоб- ственно-прямую речь или описание внешности или действий персонажа.
Список литературы Фонетические средства индивидуализации речи персонажей в художественном чтении ранней чеховской прозы
- Артоболевский Г. В., 1978. Художественное чтение. М.: Просвещение. 240 с.
- Брызгунова Е. А., 1984. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М.: Изд-во Моск. ун-та. 118 с.
- Брызгунова Е. А., 1986. Интонационная организация сценической речи//Русское сценическое произношение. М.: Наука. С. 151-165.
- Еремина Л. И., 1983. Структура художественного текста: Позиция автора, повествователя и персонажа в художественном тексте (на материале рассказов А.П. Чехова)//Структура лингвостилистики и ее основные категории: межвузовский сборник научных трудов. Пермь: Изд-во ПГУ. С. 109-114.
- Закушняк А. Я., 1984. Вечера рассказа. М.: Искусство. 343 с.
- Иванов А. П., 2006. Искусство пения. М.: Голоспресс. 436 с.
- Иванова-Лукьянова Г. Н., Пауфошима Р. Ф., 1986. Опыт сопоставительного анализа произношения одного гласного разными актерами//Русское сценическое произношение. М.: Наука. С. 192-200.
- Катаев Б. В., 1979. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М.: Изд-во Моск. ун-та. 327 с.
- Кожевникова Н. А., 2011. Стиль Чехова. М.: Азбуковник. 487 с.
- Кузнецова Л. Н., 1976. Характерологические средства сценического произношения: автореф. дис.... канд. искусств. наук. М. 24 с.
- Левидов И. И., 1939. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. Л.; М.: Искусство. 102 с.
- Никонов А. В., 1978. Вариативность усредненного спектра гласных звуков при тихой, нормальной и громкой речи//Речь, эмоции, личность: материалы и сообщения Всесоюзного симпозиума. Л.: Изд-во Лен. ун-та. С. 148-151.
- Промптова И. Ю., 1972. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М.: ВТО. 160 с.
- Прохватилова О. А., 2012. О возможностях интонационно-звуковой интерпретации авторского повествования в ранней прозе А.П. Чехова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. Т. 11, № 1. С. 186-191.
- Прохватилова О. А., 2016. Художественный текст: возможности интонационно-звуковой интерпретации. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 116 с.
- Прохватилова О. А., Фотина Н. Э., 2016. Специфика средств внутренней диалогичности в прозе А. П. Чехова 1888-1894 гг.//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. Т. 15, № 2. С. 120-128 DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.14
- Савкова З. В., 1982. Средства речевой выразительности. Л.: Знание. 32 с.
- Саричева Е. Ф., 1955. Сценическая речь. М.: Искусство. 251 с.
- Труфанова В. Я., 1986. О соотношении индивидуального и общего в интонации актера//Русское сценическое произношение. М.: Наука. С. 166-180.
- Фрид О. Ю., 1979. Работа актера над речевой характерностью//Культура сценической речи. М.: ВТО. С. 265-301.
- Чалова О. В., 2006. Эстетическая функция средств коммуникативного уровня русского языка (на примере образов, созданных О. Ефремовым, О. Табаковым и А. Калягиным): автореф. дис.... канд. филол. наук. М. 27 с.
- Чудаков А. П., 1971. Поэтика Чехова. М.: Наука. 291 с.
- Шварц А., 1968. В лаборатории чтеца. М.: Искусство. 167 с.