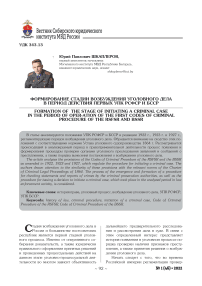Формирование стадии возбуждения уголовного дела в период действия первых УПК РСФСР и БССР
Автор: Шкаплеров Юрий Павлович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 1 (46), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются положения УПК РСФСР и БССР в редакции 1922 г., 1923 г. и 1927 г., регламентирующие порядок возбуждения уголовного дела. Обращается внимание на сходство этих положений с соответствующими нормами Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Рассматривается происходящий в анализируемый период в правоприменительной деятельности процесс появления и формирования процедуры проверки органами уголовного преследования заявлений и сообщений о преступлениях, а также порядка вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
История права, уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, упк рсфср, упк бсср
Короткий адрес: https://sciup.org/140293856
IDR: 140293856 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Формирование стадии возбуждения уголовного дела в период действия первых УПК РСФСР и БССР
Стадия возбуждения уголовного дела в России и большинстве постсоветских республик является первой стадией уголовного процесса. Именно от оперативного собирания доказательств, а также юридически правильного оформления принятых решений и проведенных процессуальных действий на данном этапе уголовно-процессуальной деятельности во многом зависит объективность дальнейшего предварительного расследования и рассмотрения дела в суде. В связи с этим определенный интерес представляет история появления в уголовном процессе порядка проверки наличия признаков преступления, а также принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Начать следует с того, что во времена Российской империи регламентация провер- ки заявлений и сообщений о преступлениях, а также порядка принятия соответствующего решения отсутствовала. Например, Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС) называл лишь поводы и основания к началу следствия, а также давал их характеристику. Примерно такой же подход изначально закреплялся и в первых советских УПК РСФСР и БССР. В то же время необходимо отметить изменение применяемой законодателем терминологии: в ст. 91 УПК РСФСР и БССР 1923 г. перечислялись «поводы к возбуждению уголовного дела», а не «поводы к началу следствия», как это было сделано в УУС. Первый из указанных терминов устоялся в законодательной деятельности и уголовно-процессуальной науке и применяется без каких-либо корректировок уже сто лет.
В рассматриваемый исторический период под поводами к возбуждению уголовного дела М.С. Строгович понимал «те установленные законом условия, при которых соответствующие органы имеют право возбуждать уголовное дело и наличие которых обязывает эти органы решать вопрос о том, есть или нет в каждом конкретном случае основания реагировать на данный факт как на преступление и приступать к производству предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий» [9, с. 153].
Но в отличие от УУС советский уголовно-процессуальный закон уже не содержал указания на необходимость наличия достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, что, очевидно, свидетельствует об определенном регрессе нормативного регулирования данного аспекта уголовно-процессуальных правоотношений. Такой подход советского законодателя в рассматриваемый исторический период подвергался обоснованной критике [12, с. 31], а в уголовно-процессуальной науке большинство авторов рассматривали основания к возбуждению уголовного дела в качестве обязательного элемента для принятия соответствующего решения [1, с. 15; 5, с. 105]. По мнению М.С. Строговича, основанием к возбуждению уголовного дела считалось наличие определенных фактических дан- ных, устанавливающих с известной степенью вероятности факт преступления, на которое органы прокуратуры, следствия и суда должны были реагировать путем предусмотренных УПК действий [9, с. 153].
Согласно ст. 91 УПК РСФСР и БССР 1923 г. поводами к возбуждению уголовного дела являлись:
-
1) заявление граждан и различных объединений и организаций;
-
2) сообщение правительственных учреждений и должностных лиц;
-
3) явка с повинной;
-
4) предложение прокурора;
-
5) непосредственное усмотрение органов дознания, следователя или суда.
Кроме того, в литературе, правда, по отношению к УПК УССР, предлагалось дополнить приведенный перечень поводов к возбуждению уголовного дела еще одним – сообщение печати [1, с. 13].
УПК РСФСР и БССР не содержали развернутого описания каждого повода к возбуждению уголовного дела, как это прежде было сделано в УУС, а лишь кратко давали характеристику первому из них. В частности, согласно ст. 94 УПК БССР 1927 г. судья, следователь, прокурор и органы дознания обязывались принимать все заявления о преступлениях. При этом судья и следователь должны были принимать заявления в том числе и по не подсудным и не подследственным им делам, направляя их затем компетентным органам.
Заявления граждан могли быть письменными и устными («словесными»). Письменные заявления в обязательном порядке подписывал заявитель (ст. 93 УПК БССР 1927 г.). Устные заявления судья, следователь, орган дознания или прокурор вносили в протокол, который также подписывался заявителем. При этом последний предупреждался об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 92 УПК БССР 1927 г.). Анонимные заявления, как и сегодня, не выступавшие в качестве поводов к возбуждению уголовного дела, подлежали «предварительной негласной поверке» органами дознания. И если по ре- зультатам такой проверки все же устанавливались признаки преступления, компетентные органы и должностные лица были обязаны принять решение о возбуждении уголовного дела (ст. 93 УПК БССР 1927 г.).
Под заявлениями «различных объединений и организаций» понимались сообщения учреждений, предприятий и организаций, не являвшихся правительственными, т.к. сообщения последних выступали в качестве отдельного повода к возбуждению уголовного дела (п. 2 ст. 91 УПК БССР 1927 г.). Стоит отметить, что в практической деятельности по сообщениям хозяйствующих субъектов о недостаче очень часто возникали вопросы о наличии необходимых оснований к возбуждению уголовного дела в связи с тем, что такие сообщения, как правило, не подтверждались необходимыми документами и материалами. В связи с этим Прокурор СССР и Нар-комвнуторг СССР 3 декабря 1936 г. своим циркуляром N 73/15134 обязали торговые организации приобщать к заявлению о преступлении в орган уголовного преследования полный акт ревизии, объяснение материально ответственного лица, заключение бухгалтера, а также оправдывающие документы, не принятые бухгалтерией [9, с. 155].
Сообщения правительственных учреждений и должностных лиц рассматривались на общих основаниях. Определенное исключение из этого правила составляли сообщения «высших государственных учреждений». Так, например, циркуляр НКЮ СССР от 8 июня 1922 г. N 44 указывал органам уголовного преследования на необходимость «внеочередности производства расследований по поручениям ВЦИК, СНК и СТО» [4, с. 83].
Различными ведомственными нормативными актами регулировались также иные вопросы, связанные с подачей в органы уголовного преследования сообщений учреждений и должностных лиц о преступлениях. Так, приказом Народного комиссариата внешней торговли СССР и Прокуратуры СССР от 3 декабря 1936 г. N 73/15134 устанавливалось, что сообщения о хищениях из торговой сети должны были содержать сведения о личности и имущественном положении подотчетного лица, об условиях работы торгового объекта и о порядке хранения в нем товарно-материальных ценностей. К сообщению подлежало прилагать: акт ревизии с указанием размера недостачи или суммы похищенного, периода образования недостачи и процента скидки на естественную убыль; объяснение материально ответственного лица; заключение бухгалтера о недостаче; все документы подотчетного лица, не принятые бухгалтерией или ревизорами. 26 декабря 1937 г. Всероссийский центральный союз потребительских обществ и Прокуратура СССР утвердили циркуляр N 89/4556, в соответствии с которым в сообщении о хищении или недостаче в системе потребительской кооперации должно было указываться: в чем состоит преступление; сумма недостачи (похищенных ценностей); место, условия совершения преступления, время его выявления; предполагаемые виновные; свидетели. Похожие требования к сообщению о недостачах и хищениях на предприятиях торговли и общественного питания предъявлялись в циркуляре Наркомторга и Прокуратуры СССР от 28 февраля 1938 г. N 11053 [3, с. 106].
Как отмечалось ранее, в УПК БССР 1927 г. не было положений, раскрывающих суть не только сообщений правительственных учреждений и должностных лиц, но и явки с повинной, предложения прокурора, непосредственного усмотрения органов дознания, следователя или суда как поводов к возбуждению уголовного дела. Однако наименование перечисленных поводов позволяет говорить о том, что их содержание во многом было схожим с содержанием закрепленных ранее в ст. 297 УУС таких «законных поводов к начатию предварительного следствия», как сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц, явка с повинной, возбуждение дела прокурором и возбуждение дела по непосредственному усмотрению судебного следователя. Видимо, в данном случае советский законодатель при конструировании названных положений УПК РСФСР и БССР исходил из аксиоматичности содержания поводов к возбуждению уголовного дела для правоприменителей и избыточности в этой связи нормативного регулирования данного вопроса. И все же стоит отметить, что такой повод к возбуждению уголовного дела, как предложение прокурора, должно было представлять собой «ясное, точное и категорическое указание [следователю] на совершенное преступление» в случаях, когда таковое было выявлено данным должностным лицом в ходе деятельности. При этом в 1940-1950-е годы указанные предложения прокуроры стали облекать в форму постановления о возбуждении уголовного дела, передавая их затем вместе с имеющимися материалами органам уголовного преследования [5, с. 104].
Непосредственное усмотрение органов дознания, следователя или суда в качестве повода к возбуждению уголовного дела встречалось, как правило, когда в ходе расследования либо судебного рассмотрения уголовных дел указанными должностными лицами и органами устанавливалось новое преступление, а также при непосредственном выявлении ими общественно опасных деяний в процессе повседневной деятельности [1, с. 15].
Новый советский уголовно-процессуальный закон не содержал точного и подробного порядка принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. В ст. 96 УПК РСФСР и БССР 1923 г. лишь указывалось, что при наличии поводов к возбуждению уголовного дела, а также признаков состава преступления:
-
1) органы дознания приступали к дознанию;
-
2) прокурор направлял дело для производства предварительного следствия или дознания либо непосредственно в суд;
-
3) следователь приступал к производству предварительного следствия, о чем в течение суток сообщал прокурору;
-
4) суд направлял дело для производства дознания или предварительного следствия либо непосредственно принимал его для рассмотрения по существу.
И наоборот, не установив признаков преступления, суд или орган уголовного преследования отказывали «в производстве дознания или предварительного следствия», о чем объявляли «заинтересованным лицам или уч- реждениям», которые, в свою очередь, в семидневный срок могли обжаловать принятое решение в суде (ст. 95 УПК РСФСР 1923 г.).
В белорусском и российском советских уголовно-процессуальных законах в редакциях 1922 г., 1923 г. и 1927 г. ничего также не говорилось о возможности процессуальной проверки наличия оснований к возбуждению уголовного дела. Однако на практике в 1920-1930-е гг. должностные лица органов уголовного преследования до возбуждения уголовного дела проводили нужные им следственные действия – допросы, экспертизы и т.п. Такая деятельность, могущая длиться до 1 года [6, с. 123], называлась «доследствен-ной проверкой», и иногда в ее рамках «производилось самое обычное предварительное следствие, но так как дело формально не возбуждалось, следствие именовалось проверкой, а уголовное дело – перепиской». Очевидно, что описанные действия органов дознания, следователей и прокуроров не соответствовали положениям УПК РСФСР и БССР [9, с. 41], в связи с чем Прокуратура СССР в довоенные годы своими приказами запрещала проведение доследственных проверок. Но полностью искоренить такой подход правоохранителей не получилось (приказы Прокурора СССР от 20 апреля 1935 г. N 15/4 и от 25 сентября 1936 г. N 58/6). Хотя стоит отметить, что та же Прокуратура СССР допускала возможность проверки заявлений и сообщений о преступлениях непроцессуальным путем исключительно прокурорами, для чего могли истребоваться документы справки и т.п. [9, с. 154; 13, с. 351].
Но, как показали дальнейшие события, несмотря на регулярные указания не только Прокурора, но и МВД СССР, «доследствен-ную проверку» ликвидировать не получилось, а ее объективная необходимость сначала вынудила МВД СССР в 1950-х гг. согласиться дать пояснение о возможности проведения до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы, а уже в 1960-х гг. законодатель в новых советских УПК легализовал имевшуюся практику проверки заявлений и сообщений о преступлениях [1, с. 19].
Что касается оформления решения о возбуждении уголовного дела в рассматриваемый период, то в силу неоднозначного нормативного регулирования в этой части вообще отсутствовала единая практика. УПК РСФСР 1923 г. в гл. VII «Возбуждение производства по уголовному делу» не содержал требований вынесения соответствующего постановления. В то же время такое указание, касавшееся исключительно следователя, имелось в ст. 110, которая находилась в гл. IX «Общие условия предварительного следствия» УПК РСФСР 1923 г. Данное обстоятельство С. Голунский в свое время пояснял тем, что в советском уголовно-процессуальном законе сохранилось «выработанное в буржуазном процессе деление предварительного расследования на дознание и предварительное следствие» и «ряд вытекающих из такого деления процессуальных ограничений для дознания» [2, с. 38]. Вместе с тем в 1920-е гг. вынесение постановлений о возбуждении уголовного дела вошло в практику большинства органов дознания [2, с. 39], видимо, в силу применения ими аналогии закона. Учитывая то обстоятельство, что подобный подход не основывался на буквальном толковании уголовно-процессуального закона, НКЮ РСФСР в целях борьбы с формализмом при принятии решений о возбуждении уголовных дел своим циркуляром от 5 июля 1929 г. для констатации факта принятия указанного решения признал достаточным наличие на заявлении о преступлении следующей резолюции: «Возбудить уголовное дело по статье … УК РСФСР» [2, с. 39; 14, с. 15]. Причем решение НКЮ РСФСР распространялось не только на органы дознания, но и на следователей, в связи с чем оно подверглось критике. И как следствие этого, по итогам выступления прокурора СССР А.Я. Вышинского на I Всесоюзном совещании прокурорско-следственных работников 23 апреля 1934 г. в п. 13 резолюции данного совещания было четко указано и в дальнейшем закреплено директивным письмом Прокурора СССР от 13 августа 1934 г. «О качестве расследования», что в целях не- допущения необоснованного возбуждения уголовных дел начало расследования могло иметь место только в связи с вынесением следственным органом мотивированного постановления о возбуждении уголовного дела [2, с. 39; 14, с. 15], которое подлежало утверждению надзирающим прокурором [7, с. 100; 9, с. 157]. Последнее обстоятельство позволяло некоторым ученым в рассматриваемый период утверждать о некой привилегированности органов дознания по отношению к следователю, т.к. их постановления, исходя из буквального толкования положений названного директивного письма, прокурором не утверждались [7, с. 100]. Постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела утверждалось начальником органа дознания и санкционировались прокурором1.
Позже для обеспечения единообразного понимания требований о процессуальном оформлении решения о возбуждении уголовного дела Прокурор СССР установил специальную форму данного постановления [14, с. 15], а в последующем соответствующие изменения были внесены и в УПК БССР [11, с. 18]. Как указывал М.С. Строгович, в постановлении о возбуждении уголовного дела указывалось: 1) место и время вынесения постановления, название органа, принявшего решение; 2) повод к возбуждению уголовного дела; 3) основания к возбуждению уголовного дела, «т.е. указания на конкретные факты преступлений, о которых орган, возбуждающий дело, получил сведения»; 4) «юридические признаки … состава преступления, т.е. соответствующая статья Уголовного кодекса» [9, с. 156]. Ну а правило об утверждении прокурором постановлений о возбуждении уголовных дел существовало практически до принятия Основ уголовного судопроизводства 1958 г. [6, с. 125].
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела также полагалось облекать в форму постановления [9, с. 155]. При этом обстоятельствами, исключающими возможность уголовного преследования, в том числе возбуждения уголовного дела, являлись:
-
1) смерть обвиняемого; 2) примирение обвиняемого с потерпевшим по делам частного обвинения; 3) отсутствие жалобы потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения; 4) истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности; 5) отсутствие в деянии состава преступления (в том числе недостижение лицом, совершившим преступление, возраста привлечения к уголовной ответственности); 6) акт амнистии; 7) наличие вступившего в законную силу приговора в отношении данного лица по обвинению в том же преступлении (ст. 3, 4 УПК РСФСР, БССР).
Как видно из приведенного списка, законодатель в УПК РСФСР и БССР по отношению к лицу, подозревавшемуся в совершении преступления, применял термин «обвиняемый», как это имело место в УУС.
Помимо указанного в качестве еще одного обстоятельства к отказу в возбуждении уголовного дела можно назвать отсутствие разрешения компетентного органа на возбуждение уголовного дела в отношении определенной категории должностных лиц. В частности, 7 января 1934 г. циркуляром Прокуратуры СССР устанавливалось правило о возбуждении уголовных дел о выпуске недоброкачественной, некомплектной и нестандартной продукции только с санкции областных или вышестоящих прокуроров. С 13 августа 1940 г. во изменение данного порядка санкцию на принятие решения о возбуждении уголовных дел по факту выпуска недоброкачественной, некомплектной и нестандартной продукции предприятием районного подчинения необходимо было получать у прокурора района, предприятием областного подчинения – у прокурора области, предприятием республиканского подчинения – у прокурора республики, предприятием союзного подчинения – у Прокурора СССР. С 1 июня 1934 г. Прокуратурой СССР похожий порядок был распространен на принятие решений о возбуждении уголов- ных дел в отношении директоров совхозов, трестов (26 июля 1936 г. исключены из этого перечня) и МТС, 15 апреля 1935 г. – на директоров колхозов, а с 29 мая 1941 – на лиц из числа сельского актива. Приказом от 22 июня 1935 г. Прокурор СССР предписал получать санкцию областного прокурора на привлечение к уголовной ответственности заведующих, приемщиков и бухгалтеров заготпунктов, а приказом от 11 августа 1939 г. – на привлечение врачей и директоров школ по должностным преступлениям и т.д. [3, с. 23-24]. Что интересно, давая характеристику особому порядку привлечения к уголовной ответственности некоторых должностных лиц, М. Чельцов писал, что этот порядок, «известный в той или иной мере буржуазным процессуальным законодательствам, крайне расширяемый фашистским процессом до полной безнаказанности всех злоупотреблений и превышений власти чиновников… был упразднен советским законодателем…». При этом «не в порядке изменения этого принципа, а лишь в порядке учета ошибок следственного аппарата» рассматриваемый институт в СССР все-таки был возрожден [12, с. 34].
В заключение необходимо отметить, что 1920-1930-е гг. стали временем появления в российском и белорусском уголовном процессе проверки заявлений и сообщений о преступлениях до возбуждения уголовного дела, а также порядка вынесения одноименного постановления. При этом соответствующие правоотношения формировались в первую очередь на практике, а не в законодательной среде, и лишь позднее были включены в уголовно-процессуальный закон. Однако учеными-процессуалистами вплоть до конца 1930-х – начала 1940-х гг. возбуждение уголовного дела рассматривалась как «начальный момент уголовного процесса», а не как самостоятельная стадия уголовного процесса [9, с. 150]. И лишь к 1950-м гг. этот подход претерпел изменения [1, с. 4; 9, с. 6; 10, с. 39].
Список литературы Формирование стадии возбуждения уголовного дела в период действия первых УПК РСФСР и БССР
- Альперт, С.А. Возбуждение уголовного дела органами милиции / С.А. Альперт. - Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1957. - 30 с.
- Голунский, С. О возбуждении уголовного преследования / С. Голунский // Социалистическая законность. - 1936. - N 2. - С. 38-42.
- Жогин, Н.В. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. - М.: Гос-юриздат, 1961. - 206 с.
- Люблинский, П.И. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : текст и постатейный комментарий с приложением алфавитно-предметного указателя / П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский. - М.: Право и жизнь, 1924. - 375 с.
- Настольная книга следователя / под общ. ред. Г.Н. Сафонова. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1949. - 879 с.
- Памятники российского права: в 35 т. Т. 29. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР: учебно-научное пособие / под общ. ред. В.А. Лазаревой, Р.Л. Хачатурова. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 608 с.
- Савицкий, В.М. Вопросы расследования преступлений в связи с проектом УПК РСФСР / В.М. Савицкий // Советское государство и право. - 1958. - N 8. - С. 99-105.
- Стремовский, В.А. Предварительное расследование в советском уголовном процессе / под ред. М.М. Гродзинского. - М.: Госюриздат, 1958. - 136 с.
- Строгович, М.С. Уголовный процесс / проф. М.С. Строгович ; Ин-т права АН СССР. -М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. - 311, [1] с.
- Тарасов-Родионов, П.И. Предварительное следствие / П.И. тарасов-Родионов ; под ред. Г.Н. Александрова, С.Я. Розенблинта. - М.: Госюриздат, 1955. - 247 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР : официальный текст с изменениями на 15 апреля 1957 г. и с приложением систематизированных материалов. - Минск: Редакция научно-технической литературы, 1957. - 180 с.
- Чельцов, М.А. Возбуждение уголовного дела и процессуальное положение следователя / М.А. Чельцов // Социалистическая законность. - 1937. - N 3. - С. 28-35.
- Чельцов-Бебутов, М.А. Уголовный процесс / М.А. Чельцов-Бебутов. - М. : Юрид. изд. тип. «Печатный двор», 1948. - 624 с.
- Швед, А.И. Актуальные вопросы возбуждения уголовного дела в Республике Беларусь / А.И. Швед. - Минск: Харвест, 2007. - 432 с.