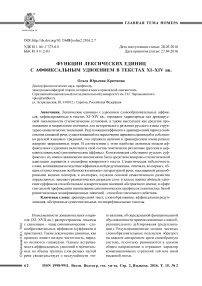Функции лексических единиц с аффиксальным удвоением в текстах XI-XIV вв.
Автор: Крючкова Ольга Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Лексические единицы с удвоением словообразовательных аффиксов, зафиксированные в текстах XI-XIV вв., отражают характерные для древнерусской письменности стилистические установки, а также выступают как средства продвижения и закрепления значимых для исторического развития русского языка структурно-семантических тенденций. Редупликация аффиксов в древнерусский период свойственна книжной речи, существовавшей на пересечении церковнославянской и собственно русской языковых традиций, она отражала наличие в древнерусском языке разных жанрово закрепленных норм. В соответствии с этим наиболее активные модели аффиксального удвоения включали в свой состав генетически различные (русские и церковнославянские) синонимические аффиксы. Контаминация собственно русских суффиксов с их южнославянскими синонимами была средством жанрово-стилистической адаптации дериватов к специфике конкретного текста. Семантическая избыточность слова, возникавшая вследствие аффиксальной редупликации, отвечала, во-первых, общим стилистическим особенностям книжно-литературной речи, насыщенной разнообразными видами повторов, а во-вторых, служила основой семантического развития определенных лексико-грамматических разрядов слов: в классе nomina abstracta удвоение суффиксов способствовало конкретизации значений абстрактного имени; в сфере глагольной префиксации нанизывание синонимических префиксов становилось базой развития новых модификационных значений - способов глагольного действия.
Древнерусский текст, словообразование, аффиксальная редупликация, абстрактные существительные, полипрефиксальные глаголы
Короткий адрес: https://sciup.org/14969973
IDR: 14969973 | УДК: 811.161.1’373.611 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.7
Текст научной статьи Функции лексических единиц с аффиксальным удвоением в текстах XI-XIV вв.
DOI:
В письменности донационального периода (XI–XVII вв.) распространены лексемы с удвоением – чаще синонимическим – словообразовательных аффиксов (суффиксов и приставок). Такие лексические единицы, как правило, имеют низкую частотность, нередко являются гапаксами. Однако встречаемость аффиксальных удвоений в значительных по объему группах слов разных частей речи свидетельствует о неслучайности это- го явления, об определенной функциональной обусловленности приема семантико-словообразовательного дублирования (редупликации). Редупликационные модели частных словообразовательных подсистем образуют на каждом синхронном срезе своеобразную систему, поскольку развиваются в едином общем направлении и отражают характер коммуникативных стратегий той или иной языковой эпохи.
В древнерусский период очевидна прагмостилистическая по преимуществу направленность внутрисловного деривационного повтора. Наиболее активные модели аффиксального удвоения обычно включали в свой состав генетически различные синонимические аффиксы: - ич(ь) + - ищ(ь) ( львичищь , сестри-чищь , робичищь ), - тел(ь) + - ьник(ъ) ( влас-тельникъ , д h лательникъ , писательникъ ), - ьств(о) + - и(е) ( вьдовьствие , богохуль-ствие , чувьствие ), по - + ис -, по - + съ -, при - + вос - ( испостигнути , съпохвалити , воспри-нести ). Аффиксальная редупликация в текстах древнерусского периода ярко отражала взаимодействие двух языковых стихий, колебание норм письменной речи: сосуществование в древнерусском языке разных жанрово закрепленных норм (см.: [8]) или же наличие такой нормы, неотъемлемой чертой которой было варьирование средств выражения (см.: [4]). В этих условиях контаминация собственно русских суффиксов с их южнославянскими соответствиями была средством жанровостилистической адаптации дериватов к специфике конкретного текста. В присоединении к заимствованному аффиксу равнозначного исконно русского или, наоборот, к исконно русскому аффиксу южнославянского дублета можно усматривать своеобразный стилистический прием экспликации, выработанный еще Кириллом и Мефодием при переводах с греческих оригиналов на славянский язык. Этот прием, пишет Е.М. Верещагин, «состоит в том, что одному греческому слову ставятся в соответствие два (редко три) славянских». Назначение этого приема – «в разъяснении переводимого текста» [3, с. 84]. Своего рода разъяснение словообразовательного значения с помощью дополнительного гетерогенного словообразовательного аффикса происходит и в обсуждаемых случаях.
Редупликация аффиксов в этот период – примета книжной речи, существовавшей на пересечении двух языковых традиций – церковнославянской и собственно русской. Семантическая избыточность слова, возникавшая вследствие аффиксальной редупликации, отвечала общим прагмостилистическим тенденциям книжно-литературной речи. Варьирование на всех уровнях – лексическое, грамматическое и даже графическое (ср. варьи- рование букв î и w, q и y) – было специфической чертой литературных памятников Древней Руси [7, с. 75]. В синтагматике текста это находило выражение в широком использовании приемов так называемой трансформационной тавтологии – повторениях с изменением грамматического или словообразовательного облика слова. Ср. примеры И.С. Улуханова, извлеченные из памятников ХI–ХV вв. [14, с. 47– 48]: горя вhрою правовhрия, видимое видение, свhтильникъ свhтлыи, божьствьными блистании блистая, падениемъ падоша, запрещением запретить, лицьмь же к лицу, яко на свhтильницh свhтильникъ, избьрана съ избьраными. Т.Н. Кандаурова отмечает обычное для древнерусских памятников употребление в непосредственной близости русского и церковнославянского эквивалентов, соотнесенных с одним и тем же денотатом, например: не в Давыдовh городh ятъ, ни слhпленъ, но в твоемъ градh ятъ и слhпленъ; понеже вы есте братья одиного отьца и единой матери; видh и у вратъ стояща и от радости же не отврьзе воротъ [7, с. 67].
И.С. Улуханов так определяет назначение распространенных в древнерусской письменности текстовых повторов: «Все эти риторические приемы были призваны не только продемонстрировать искусство автора или переводчика. Повторение слов, близких по значению, вновь и вновь возвращало читателя к основному предмету речи, к тому общему понятию, которое лежало в основе значений всех повторяющихся слов. Тем самым демонстрировалась сложность, многоплановость этого понятия, утверждалась его важность, возвышенность» [14, с. 47]. Частотность и разнообразие конструкций с повторами связаны, кроме того, с активным усвоением греческих культурно-философских концептов. «Трудность доведения до сознания читателей и слушателей новых идей, – писал Б.А. Ларин, – проявлялась в накоплении парных обозначений, синонимических повторов... здесь была насущная необходимость повторения в двух-трех параллельных выражениях» [10, с. 118]. Примечательно и то, что большое число разного рода тавтологических образований, засвидетельствованных памятниками до ХIV в., является, по наблюдениям А.Г. Ломова, либо кальками, либо вольными переводами гречес- ких выражений [11]. Таким образом, разного рода повторения, в том числе и внутрисловные, были важным свойством древнерусской книжно-письменной речи. Внутрисловные повторы в древнерусском языке, так же как и межсловные, являлись стилистическим приемом расширения текста и служили приметой его книжности, литературности, выполняли поэтическую функцию, в наиболее концентрированном виде выражая свойственное поэтической функции языка, по Р. Якобсону, перенесение принципа эквивалентности «с оси селекции на ось комбинации» [16, с. 202]. На формирование раннего русского текста сильное влияние оказывали не только греческие структурные образцы, но и шире – античное и средневековое искусство риторики, основными постулатами которой были неразрывно связанные между собой убеждение и красноречие. «Воздействие на средневекового читателя и слушателя, – пишет С.И. Ба-женова-Рагрина, – осуществлялось не только “высшим, общим” содержанием, авторитетностью ссылок, примеров и параллелей, но одновременно и обилием украшающих речь симметрических и ритмических приемов» [1, с. 125].
Однако лексемы с аффиксальным удвоением в текстах XI–XIV вв. служили не только средством прагмостилистической аранжировки текста, приемом поддержания традиций древнейшей славянской письменности. Важным фактором аффиксальной редупликации в древнерусском языке были также процессы живого структурно-семантического развития языковых подсистем, также нашедшие свое выражение в письменности этого периода.
В сфере внутрисловных удвоений, зафиксированных древнерусской письменностью, наивысшей активностью характеризовались модели редупликации суффиксов nomina abstracta (среди которых наибольшую продуктивность развивает модель - ьство + - ие ) и модели глагольной префиксальной редупликации. Рассмотрим на примере этих моделей основные функции лексических единиц с аффиксальным удвоением в текстах XI–XIV вв. (о функционировании других, менее продуктивных, моделей аффиксальной редупликации в древнерусской письменности см.: [5]).
Определяющим фактором суффиксального удвоения для nomina abstracta было активное усвоение этого в целом нового лексического класса, состоявшего по преимуществу из греческих калек. Коммуникативная потребность в развитии предметного способа представления качеств, действий и состояний, возникшая в связи с восприятием греческих культурно-философских концептов, обусловила повышенную вариативность отвлеченных существительных в древнерусской письменности (см., например: [15, с. 114]), а также высокую активность аффиксальных удвоений в группе nomina abstracta ( блаженьствие, милосрьдь-ствие, нев h рьствие, мъногобожьствие, благобоязньство, погиб h лие, злобие и мн. др.). Суффиксально удвоенные nomina abstracta принадлежали исключительно высокому стилю, связанному с церковно-книжной традицией. Многие из них не входили, по всей видимости, в активный словарь древнерусского периода, а были результатом индивидуального словотворчества (ср., напр.: половина имен на - ьствие в текстах XI–XIV вв. являются гапаксами). Имена с нанизыванием абстрактно-именных суффиксов встречаются чаще всего в переводной литературе. Такие производные, вероятно, создавались переводчиками для наиболее точного, «надежного» выражения тех отвлеченных понятий, которыми изобиловала византийская догматическая и философская литература.
Имея ярко выраженную стилистическую обусловленность, нанизывание абстрактноименных суффиксов отражало также и некоторые семантические тенденции в развитии абстрактных имен. Так, анализ функционирования имен на -ьство и -ьствие в памятниках древнерусской письменности показывает, что присоединение второго суффикса с отвлеченным значением в ряде случаев конкретизирует значение состояния, свойственное первичным производным на -ьство. В производных на -ьствие значение состояния выступает как в большей степени опредмеченное: они приобретают форму множественного числа (И ωт всhхъ еретичьствии все зло събравъ. ГА. ХIII–ХIV вв.) или обозначают качество конкретного лица или качество, проявившееся в данной конкретной ситуации (Блжньствие се убо на обрhзание или на окръвествию глемъ, яко причтеся Аврааму вhра въ правду. Апост. (Воскр.)1. 1220 г.). Ср. также другие случаи обобщенного употребление имен на -ьство и конкретизированного употребления имен на -ьствие: Сладостии... овы суть истиньны, а другыя въ лъжу, да овы мысли единоя по къзньству и разумhнью, а дру-гыя съ плътью по чувьству. Ио. екз. Бог. ХII в. Но: Крhпъко съкруши вражыя къзньствия (мн. ч.). Мин. окт. 1096 г.; Премудрому Соломону рекше: время всякои вещи вhдhти подобаеть, яко пощажению и дерзновению, и блгстыни и напрасньству. Хрон. Г. Амарт. ХIII–ХIV вв.~ХI в. Но: Увhдhхъ, яко злословять снве его ва, и не наказаше ею, еще же аще и наказалъ, но наказание то приято мнимо бысть, не имущю зhло напрасньствия. Хрон. Г. Амарт. XIII– XIV вв.~Х1 в.; Таинамъ бжиямъ вhруи... невhрьство же отъмhтаи. Изб. Св. 1076 г. Но: Тогда приступльше ученици къ Инсу единому, рекошя: Почьто мы не могохомъ из-гънати его [беса]? Инс же рече им: За невhрствие ваше. Остр. ев. 1056–1057 г.
Удвоение суффиксов с отвлеченным значением подчеркнуто морфологизировало процесс синтаксической деривации, процесс перехода означаемого из одного содержательного класса в другой и способствовало утверждению категориального значения предметности у производного имени существительного. Суффиксальный повтор маркировал, таким образом, один из наиболее характерных для категории nomina abstracta процессов – конкретизацию значений абстрактного имени [12, с. 79], придавая этому процессу структурную выраженность.
Заметный пласт лексики в древнерусской письменности образуют глаголы с двумя равнозначными приставками. Функционирование глаголов с редупликацией равнозначных префиксов в памятниках XI–XIV вв., так же как и употребление двусуффиксных nomina abstracta, связано как с жанрово-стилистическими особенностями древнерусской письменности, так и с теми значительными историческими изменениями в области глагольной префиксации, которые активно разворачивались в древнерусском языке.
Глаголы с префиксальным удвоением, возникшие на базе калькирования греческих полипрефиксальных образцов [13, с. 23], органично включались в общий стилистический строй высокой книжности, находились в ряду средств создания панегирической тональности древнерусских литературных памятников. Не случайно в роли вторичных активны прежде всего префиксы старославянского происхождения про-, при-, прh-, из-, раз-, воз-, ср: проразумhти (Проразумhхъ мою немощь. Пал. XIV в. Зав. Iуд.), приподаяти (Болящимь цhльбоу и страстии избавление приподаю-ща безмьздьно, всhмь застоупьника явис-тася. Мин.(ноябрь), 1097 г.), прhпроважати (лhта своя съ кротостию прhпроважаи, и члвкомъ възлюбленъ боудеши. Изб. Св. 1076 г.), изоостати (кто ся изоωстанеть въ манастыри. то вы тhмь дължьни есте мо-лити за ны ба. Гр. Мстисл. 1130 г.), распрос-тирати (Слнце бо сы правьды, къ вьсhмъ распростираеть луча блгод^нию (Сл. Ио. Злат.). Усп. сб., 412. XII–XIII вв.), въсподhяти (Иноязычници же въсподhяху немало млсрдие намъ. Апост. XIV в.).
У двупрефиксных глаголов, так же как и в группе двусуффиксных абстрактных имен, развиваются новые семантические функции – прежде всего, количественно-аспектуальные значения интенсивности, полноты, исчерпанности действия, которые наиболее явно проявляются в текстах летописей, грамот, находящихся на пересечении церковно-книжной и народно-разговорной традиций (подробнее см.: [9, с. 84–89]). Следовательно, выполняя в древнерусском языке прежде всего стилистическую функцию, префиксальное удвоение стало также экспликатором новых номинативных тенденций в области русской префиксации, средством поддержки и продвижения категории способов глагольного действия.
Стилистически и номинативно обусловленные внутрисловные удвоения демонстрируют разные коммуникативные тенденции. В первом случае это область эволюции текста, во втором – область эволюции языка. Эти сферы, по определению Вяч. Вс. Иванова, «не соподчинены друг другу, а движутся в разных, чаще всего противоположных, направлениях» [6, с. 415]. Если стилистически обусловленная словообразовательная редупликация в древнерусском языке ретроспективна по своей сути, то аффиксальные удвоения номина- тивного назначения указывают, напротив, на перспективные тенденции языкового развития.
Использование как стилистически обусловленных, так и номинативно обусловленных внутрисловных удвоений в памятниках древнерусской письменности определялось в значительной степени характерными для древнерусской книжности представлениями о правильности письменного текста. К концу древнерусского периода, как отмечает М.А. Бобрик, складывается особый, синтетический подход к тексту, объединяющий два противоположных направления – неконвенциональное (реставрационно-консервативное) и конвенциональное (конструктивное). Это выражается в том, что правильность связывается, с одной стороны, с верностью греческому оригиналу, с расширенным использованием южно-славянизмов и грецизмов, а с другой стороны, с заботой о ясности и доступности текста [2, с. 70]. Борьба двух подходов, а затем и их синтез, очевидно, немало способствовали становлению той «двунаправленной» системы внутрисловных удвоений, которую мы находим в древнерусском языке.
Однако несмотря на взаимодействие двух факторов аффиксальной редупликации (стилистического и номинативного) наибольшую значимость в древнерусский период имел все же стилистический фактор. Об этом свидетельствуют следующие факты: 1) в древнерусских текстах количественно преобладают редуплицированные производные, отличающиеся от своих производящих лишь «ореолом книжности»; 2) наибольшей продуктивностью отмечены модели редупликации, включающие в свой состав аффиксы старославянского происхождения; 3) большинство производных с редупликацией аффиксов встречаются в памятниках древнерусской переводной литературы и являются гапаксами, образованиями единичного употребления, созданными для данного конкретного письменного текста.
Список литературы Функции лексических единиц с аффиксальным удвоением в текстах XI-XIV вв.
- Баженова-Рагрина, С. И. Проблема описания структуры текстов Древней Руси/С. И. Баженова-Рагрина//Ученые записки Тартуского университета. -1990. -Вып. 896. -С. 120-130.
- Бобрик, М. А. Представления о правильности текста и языка в истории книжной справы в России (от ХI до ХVIII в.)/М. А. Бобрик//Вопросы языкознания. -1990. -№ 4. -С. 61-85.
- Верещагин, Е. М. Две линии в языкотворчестве Кирилла и Мефодия и их последователей: формирование терминологии, создание поэтической традиции/Е. М. Верещагин//Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации). -М.: Наука, 1988. -С. 78-90.
- Верещагин, Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян: к проблеме греческо-славянских лексических и грамматических вариантов в древнейших славянских переводах/Е. М. Верещагин. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. -50 с.
- Дмитриева, О. И. Динамика словообразовательных процессов: семантико-когнитивный, жанрово-стилистический, структурный аспекты/О. И. Дмитриева, О. Ю. Крючкова. -Саратов: Научная книга, 2010. -364 с.
- Иванов, Вяч. Вс. Взаимоотношение динамического исследования эволюции языка, текста и культуры (к постановке проблемы)/Вяч. Вс. Иванов//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. -1982. -Т. 41, № 5. -С. 406-419.
- Кандаурова, Т. Н. Повтор как прием литературной отделки текста (на материале памятников XII-XIV веков)/Т. Н. Кандаурова//Проблемы развития и современного состояния русского языка. -М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1979. -С. 66-76.
- Крючкова, О. Ю. Развитие языковой нормы в донациональный период истории русского языка и динамика словообразовательной нормы/О. Ю. Крючкова//Научное обозрение: гуманитарные исследования. -2014. -№ 1. -С. 37-44.
- Крючкова, О. Ю. Синонимия глагольных префиксов и синонимическая полипрефиксация в древнерусском языке/О. Ю. Крючкова//Слово в языке и тексте: сб. ст. к 85-летию со дня рождения Софии Петровны Лопушанской. -Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011. -С. 79-91.
- Ларин, Б. А. Лекции по истории русского литературного языка/Б. А. Ларин. -М.: Высшая школа, 1975. -328 с.
- Ломов, А. Г. Сравнительно-историческое изучение тавтологических образований русских летописей/А. Г. Ломов//Вопросы языкознания: материалы ХХIV науч. конф. проф.-препод. состава СамГУ им. А. Навои. -Самарканд: , 1967. -С. 65-70.
- Николаев, Г. А. Имена существительные с суффиксом -ствие в русском литературном языке XVIII века/Г. А. Николаев//Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века (Ломоносовские чтения). -Казань: КГУ, 1967. -Вып. 1. -С. 73-86.
- Ройзензон, Л. И. Славянская глагольная полипрефиксация: автореф. дис.. д-ра филол. наук/Ройзензон Леонид Иванович. -Минск, 1970. -103 с.
- Улуханов, И. С. О языке Древней Руси/И. С. Улуханов. -М.: Наука, 1972. -134 с.
- Черепанова, О. А. Морфологическое и лексико-словообразовательное варьирование в Успенском сборнике XII-XIII вв./О. А. Черепанова//История русского языка. Вып. 1: Древнерусский период. -Л.: ЛГУ, 1976. -С. 108-118.
- Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика/Р. Якобсон//Структурализм: «за» и «против». -М.: Прогресс, 1975. -С. 193-230.