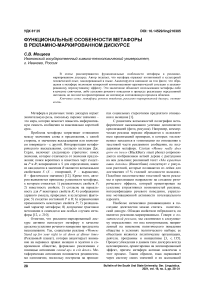Функциональные особенности метафоры в рекламно-маркированном дискурсе
Автор: Мощева Светлана Васильевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология и лингвокультурология
Статья в выпуске: 3 т.18, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функциональные особенности метафоры в рекламно-маркированном дискурсе. Автор полагает, что метафора отражает когнитивный и культурный человеческий опыт, закодированный в языке. Акцентируется внимание на том факте, что обращения к метафоре подчинено конкретной коммуникативно-прагматической ситуации и запланированному перлокутивному эффекту. Это заключение объясняет использование метафоры либо в качестве смягчения, либо усиления речевого поведения в процессе реализации персуазивной интенции, но оно всегда ориентировано на эмотивную составляющую процесса общения.
Метафора, речевое поведение, рекламно-маркированный дискурс, эмотивность
Короткий адрес: https://sciup.org/147235372
IDR: 147235372 | УДК: 81’25 | DOI: 10.14529/ling210305
Текст научной статьи Функциональные особенности метафоры в рекламно-маркированном дискурсе
Метафора в различных типах дискурса играет значительную роль, поскольку перенос значения – это мера, которая помогает повысить информативную емкость сообщения за максимально короткий срок.
Проблема метафоры затрагивает отношения между значением слова и предложения, с одной стороны, и значением высказывания или значением говорящего – с другой. Интерпретация метафорического высказывания, согласно взглядам Дж. Серля, включает следующую стратегию: поиск значения, которое отличается от значения предложения; поиск вероятных и известных черт сходства Р и R ; возвращение к S для определения, какие из кандидатов в значения R являются возможными свойствами S ( S – говорящий, P – выражение, R – фактическое значение) [12]. Кроме того, автором выявляются принципы успешности метафоры, к которым относятся: 1) релевантность свойств Р ; 2) известность свойств; 3) согласие на нереальность для Р некоторых свойств R ; 4) соображения здравого смысла, природных и культурных факторов; 5) сходство состояний Р и R ; 6) ограниченная применимость некоторых свойств Р ; 7) реляционный характер метафоры; 8) допущение трактовки метонимии и синекдохи как особых случаев метафоры [12, c. 210].
Отметим, что рекламно-маркированный дискурс активно использует метафору в качестве средства усиления речевого намерения продуцента высказывания. Так, социальная реклама «Women: Stand up for your right to sit down at dinner time» (Рекламный плакат), которая акцентирует внимание на неравных правах женщин и мужчин в современном обществе, формально реализована с помощью антонимии «stand up» и «sit down». Метафорическая антонимия понимается реципиентами однозначно, поскольку построена на принци- пах социальных стереотипов предвзятого отношения к женщине [1].
С развитием возможностей полиграфии метафорические высказывания успешно дополняются креолизацией (фото, рисунок). Например, коммерческая реклама нередко обращается к осложненным креолизацией примерам, в которых «осложнение» находится в «оппозиции» по отношению к текстовой части рекламного сообщения, не поддерживая метафору. Слоган «Money really does grow on trees» (BlackBerry smart phone) сопровождается изображением ветвей дерева с растущими на нем деньгами; рекламный текст «Мы взрастим ваши доходы» (Инвестбанк) соседствует с рисунком растений, которые поливаются из лейки для достижения «5 % годовой доходности вкладов». Подобное несоответствие текстовой части рекламы и креолизации направлено на создание риторического эффекта, который ориентирован на усиление аттрактивных возможностей рекламы, интенсификацию речевого поведения, укрепление мотивационной активности потенциального адресата.
Наиболее интенсивно развивающимся в последние десятилетия можно считать политический дискурс. Обладая свойством гибридности, он является рекламно-маркированным. Говоря о политической рекламе, мы склоняемся к следующему определению: это вид коммуникации, направленный на изменение политического поведения общества в условиях политического выбора; ее объектами являются политические организации, деятели, программы и инициативы [3, с. 135]. Процесс убеждения в данном типе дискурса всегда целенаправлен, ориентирован на запланированный эффект, причем метафора активно вовлечена в этот процесс. Таким образом, язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций концептуальную модель мира, придавая антропоцентрическую интерпретацию, соотнося окружающий мир с собственно человеческим масштабом, с ценностно-определенными стереотипами его восприятия [5]. Подобная ценностноориентированная и управляемая стереотипами модель поведения индивида позволяет выделить наиболее активные способы «потакать» стереотипам и сложившимся в различных группах ценностным предпочтениям.
Не вызывает сомнения тот факт, что метафора в политическом дискурсе, являясь полифункцио-нальной по своей природе, реализуя контактоустанавливающую функцию и поддерживая функцию усиления речевого намерения адресанта сообщения, апеллирует к эмоциональной сфере реципиента.
Эмотивность и способы ее проявления привлекают особое внимание исследователей. Отметим, что эмотивность обычно понимают как выражение чувств, эмоций говорящего. Таким образом, термин эмотивность закрепляется именно за лингвистическим обозначением эмоционального компонента [4].
Набор эмотивных средств языка ограничен и дейктичен по причине того, что диапазон эмоциональных переживаний человека гораздо шире и не всегда может получить адекватное вербальное выражение, поскольку эмотивные средства могут приобретать ситуативное прагматическое значение, обусловленное спецификой эмоциональной позиции субъекта речи [6, с. 46]
В рамках прагматики в настоящее время активно изучается связь эмотивности и речевой интенции.
Рассмотрим отрывок из предвыборного текста Э. Милибанда, лидера Лейбористской партии Великобритании: «… we have only come through the storm because we were One Nation. <…> We can’t be a country where vocational qualifications are seen as second class. <…> …the high street bank is no longer the arm of a casino operation» [10] . В эмотивно насыщенном обращении с помощью метафоры автор пытается вызвать у избирателя и чувство гордости за нацию, которая преодолела экономические сложности (come through the storm) и не позволила банкам участвовать в «casino operation», т. е. использовать средства в целях собственной выгоды, и чувство неприятия того факта, что люди рабочих специальностей воспринимаются в качестве второсортных (second class) членов общества.
С интенцией обещания навести порядок в пенсионном законодательстве и осуществить перераспределение средств с целью увеличения пенсионного пособия, Д. Кэмерон, лидер Консервативной партии Великобритании (2012), обращается к метафоре «the lion’s share»: «These account for around £110 billion of the total welfare bill – the lion’s share of which is spent on pensions» [8] .
Метафору «the door to the future», как уверенность лучшего выбора для развития страны, вклю- чает в свое политическое выступление М. Ромни, представитель Республиканской партии США, тем самым призывая проголосовать за свой политический блок: «The door to a brighter future is there, open, waiting for us. I need your vote, I need your help. Walk with me, walk together» [11]. Уверенность в жизнеспособности позиций партии консерваторов также поддерживается в речи Д. Кэмерона (2012) с помощью метафоры – «star – was born» [8], говоря о молодом лидере Консервативной партии Шотландии. Имплицитно автором транслируется идея актуальности взглядов партии, которая пополняется представителями молодого поколения.
Интенция порицания и иронии также нередко реализуется за счет обращения к метафоре [2]:
-
– в предвыборном тексте лидера Либеральнодемократической партии Великобритании Н. Клега [9] метафорическое использование сочетания «blame onshore wind farms / обвинять береговые ветряные электростанции» , направленное на оценку работы действующего правительства, которое в своем бездействии стремится обвинять абсолютно всех, имеет и саркастический подтекст;
-
– политик М. Ромни прибегает к метафоре «Washington in gridlock / Вашингтон в тупике» [11] для характеристики истинного положения дел в правительстве;
– консерватор Д. Кэмерон (2010), выступая перед избирателями, приводит слова предпринимателя, негативно высказывающегося о действиях правительства, которое «didn't lift a finger / не пошевелило пальцем», чтобы оказать помощь при построении бизнеса: «I always remember what the owner of a small business told me once. He said: ‘When I was starting out, the government didn't lift a finger to help me. Then as soon as I start making money they're all over me trying to take it away’» [7].
Анализируя англоязычные примеры, построенные с использованием метафоры, отмечаем, что значимая их часть представляет собой: 1) ассертивные высказывания с игнорированием предикативной части, представленной имплицитно; 2) осложненные ассертивные высказывания; выявлены осложнения в форме придаточных условных, обстоятельственных, а также косвенных речевых актов; 3) директивные перформативные высказывания с усечением перформативной части и эксплицитной формой пропозиции; 4) высказывания на основе речевых актов рогативов, реализованные с помощью риторических вопросов, которые классифицируются нами как косвенные речевые акты с иллокуцией ассертивного речевого акта. Отметим, что выбор той или иной структуры высказывания всегда согласуется с целеустановкой всего сообщения.
Можно заключить, что обращения к метафоре подчинено конкретной коммуникативнопрагматической ситуации и запланированному перлокутивному эффекту; этот факт объясняет использование метафоры либо в качестве смягче-
Лингвистическая дискурсология и лингвокультурология
ния, либо усиления речевого поведения в процессе реализации персуазивной интенции, но всегда ориентировано на эмотивную составляющую процесса общения.
Список литературы Функциональные особенности метафоры в рекламно-маркированном дискурсе
- Мощева, С.В. Экспрессивные речевые акты в медиакоммуникации (на материале коммерческой рекламы) / С.В. Мощева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2015. – Т. 12, № 4. – С. 45–48.
- Мощева, С.В. Полифункциональный характер речевого акта иронии / С.В. Мощева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2016. – Т. 13, № 4. – С. 53–56.
- Мощева, С.В. Интенциональность речевого поведения: система средств интенсификации (на материале коммерческого и некоммерческого рекламного дискурса): дис. … д-ра филол. наук / С.В. Мощева. – М., 2019. – 509 с.
- Мощева, С.В. Экспрессивный потенциал текстов массмедиа: языковые уровни. Ч. 2 / С.В. Мощева. – М.: Русайнс, 2020. – 94 с.
- Телия, В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира / В.Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.
- Шаховский, В.И. Дейксис в сфере эмоциональной речевой деятельности / В.И. Шаховский, В.В. Жура // Вопросы языкознания. – 2002. – № 5. – С. 38–51.
- Cameron, D. Leader’s speech, Birmingham 2010. – http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=214 (дата обращения: 15.12.2020).
- Cameron, D. Leader’s speech, Birmingham 2012. – http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=324 (дата обращения: 15.12.2020).
- Clegg, N. Leader's speech, Glasgow 2014. – http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=357 (дата обращения: 18.12.2020).
- Miliband, Ed. Leader's speech, Manchester 2012. – http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=323 (дата обращения: 18.12.2020).
- Romney, M. Campaign Speeches, Iowa 2012. – http://www.presidentialrhetoric.com/ campaign2012/ romney/10.26.12.html (дата обращения: 10.12.2020). 12. Searle, J.R. Metaphor / J.R. Searle // Metaphor & Thought. – Cambridge, 1993. – P. 203–222.