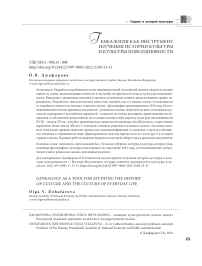Генеалогия как инструмент изучения истории культуры и культуры повседневности
Автор: Джафарова Ольга Витальевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (109), 2022 года.
Бесплатный доступ
Разработка проблемного поля индивидуальной культурной памяти является сегодня одним из самых захватывающих аспектов в изучении исторического пласта культуры повседневности. Внимание к дневникам, письмам и прочим источникам личного происхождения трудно переоценить. Разумеется, генеалогический поиск как таковой, как и в нашем случае, отталкивается от подобного личного источника, в данном случае фотографии ориентировочно 1910 года. Источниковедческий анализ архивных документов ревизских сказок, метрических книг, исповедных росписей, подворных и посемейных переписей позволил не только расширить представление иссле- дователя о собственной родословной, но и создать контекстную картину культуры повседневности XVIII начала ХХ вв., углубив краеведческую хронологию прихода села Шульгино с окрестными деревнями более чем на 200 лет. С большой степенью уверенности можно сказать, что поиск искомых семи колен предков помогает процессам самоидентификации и, очевидно, стрессоустойчивости человека в современном мире, формированию чувства причастности к культуре и к истории страны в целом. В рамках работы впервые вводится в научный оборот масса архивных документов.
Генеалогия, крестьянский быт, тульская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/144162597
IDR: 144162597 | УДК: 929.5 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-5109-23-31
Текст научной статьи Генеалогия как инструмент изучения истории культуры и культуры повседневности
Лирическое отступление про исторические источники
Ревизские сказки – документы государственные, светские, в них указывалось название деревни, сельца, села, города, а также уезд и губерния. До отмены крепостного права (19 февраля 1861) обязательно писали имя хозяина. Знание о бывшем господине тоже дает много интересной информации: находилась ли земля в руках одной семьи, как была получена, кому и по какой причине передана, кем был сам барин или барыня, жили ли они в поместье или в городе, чем еще владели, кто жил по соседству. Словом, мир заиграет совсем новыми красками, раскрасив сухие факты.
Ревизские сказки – это перепись податного населения, то есть всех, кроме дворян. Всего ревизских сказок (сказка в данном случае – запись рассказанного) проводилось десять – с 1720 по 1858, причем четкого промежутка лет не определялось; так шестая и седьмая ревизии проводились с разницей в 5 лет, а между седьмой и восьмой прошло 18 лет. Про это «Мертвые души» Н. В. Гоголя: люди давно умерли, а ревизии все нет, следовательно, по бумагам они живы и подать с них платить надо. Верно и обратное: за 18 лет много народу народилось, а люди все еще не учтены.
Большая часть населения Российской империи была неграмотна, поэтому и сказка была сказкой, записанной со слов говорящего, а говорящий может забыть, а может и соврать. Трудно представить, но дни рождения тогда не отмечали, скорее уж день ангела, день поминовения святого тезки, возраст помнился приблизительно. Особенно это заметно, когда ведешь пристальный розыск членов одного рода. Получается, что за срок между ревизиями кто-то состарился на 5 лет, а кто-то на все 10, найдутся и помолодевшие. Подать платили только с мужчин вне зависимости от возраста, их называли душами. За женщинами душ не числили и подать с них не платили, от этого в некоторых ревизиях женщин не учитывали, они требовались только для общего представления о численности населения. Из-за этого обстоятельства новорожденных сыновей могли и не указать, детская смертность держалась на очень высоком показателе, а написанное в сказке считалось верным до следующей ревизии, а когда она еще будет, никто проверять и менять не станет. Что нам дает сказка в поиске наших далеких дедушек? Состав семьи, кто жил на этом дворе (число могло доходить человек до 15), кто в каком родстве друг с другом состоял, как менялся состав семьи от сказки к сказке (смерть, отдачу в рекруты фиксировали, до поры указывали, откуда брали невесток и куда выдавали замуж дочерей).
Очень много информации содержится в документах церковных: метрических книгах и исповедных росписях, а там своя территория – приход, епархия, консистория. В метрических книгах религиозная община фиксировала все акты гражданского состояния. Исповедные росписи, как видно из названия, указывали, кто явился, а кто нет и по какой причине на исповедь. Принято считать, что к исповеди ходили практически еженедельно, это не совсем верно. В самом конце XIX, а еще пуще в начале XX века, религиозные общины сделали все возможное, чтобы религия не ушла из повседневной жизни людей. Католическая церковь поддержала, а вернее – вдохновила профсоюзное движение; ислам стал частью самоопределения в постколониальную эпоху. С православием у нас в стране так не случилось: церковь, точнее, религия вообще была отделена от государства после Революции, подвергнута гонениям и только к концу ХХ века в той или иной степени вернула утраченные позиции. Именно тогда для поддержания контакта стала вводиться практика частых исповедей, причастий. В XVIII– XIX вв. все было несколько иначе: благородное сословие бывало у причастия раз в год, а то и реже; крестьяне в норме должны были приходить к исповеди и причастию четыре раза в год, во время крупных постов. В канун Троицы (июнь / июль, 50 дней после Пасхи) подавалась Исповедная роспись, с 1834 года она стала обязательной для заполнения приходским священником. Что мы можем узнать из этого документа и где оступиться? Самое главное – состав семьи; приходили все вместе, включая стариков и младенцев, но (опять это НО) возраст указывали, как помнили или как хотели показать, имя священник также записывал на слух и мог ошибиться. Ничего не сообщалось и об отсутствующих, обычная запись «по нерадению» нам мало что проясняет. Но состав семьи – это очень важно, особенно в период долгого отсутствия ревизских ска- зок. Да и весь набор просторечных имен нам встретится именно здесь, и надо приложить много фантазии, чтобы догадаться, как же звали человека изначально.
Так чего же проще, можно подумать, возьмем метрические книги и дело с концом. Да, но… Метрической книге можно верить на все 100 %, но в каждом отдельном случае и очень скептично относиться в целом. А это как? А вот так. Встречаем мы запись о смерти человека, в ней все четко – день, месяц, год смерти и погребения, кто проводил обряд отпевания, служил на кладбище и на каком. Но вот возраст указан со слов родни, а значит – очень приблизителен. Отдельная увлекательная, хотя и мрачноватая тема – причина смерти, ее указывали обязательно. Помимо очевидных – корь, оспа (здесь очень начинаешь верить в целительную силу вакцин, когда видишь по 20–30 случаев за месяц в одной деревне), лихорадка, понос (дизентерия), встречаются и описательные: «от цвета тела» (видимо, желтуха, болезнь Боткина), а то и вовсе философское: «по долгу естества».
Двигаемся по жизни человека вспять, пытаясь по возрасту угадать (именно так) год его рождения, плюс минус 5 лет в обе стороны, и нам может повезти, а может – и нет. Не везет, если родители по какой-то причине находились не в родной деревне. Тогда случится интересное: местом рождения будет указана родовая деревня, а окрестили, где получилось, то есть, выражаясь современным языком, местом рождения ребенка указывается адрес постоянной регистрации его родителей, а само свидетельство о рождении выдано хоть в Заполярье. В случае с метриками надо ухитриться догадаться, где это условное Заполярье могло случиться (а для этого надо довольно четко себе представлять спустя 100–200 лет возможные маршруты перемещения предков), а где это едва ли возможно.
А нам повезло: человек родился именно там, где жил и умер, эта дата тоже совершенно верна, указан и день рождения, и день крещения, и крестные, и крестивший, и все обстоятельства жизни матери. Метрическая книга фиксирует, был ли ребенок родным или приемным, рожден ли в браке или незаконнорожденный. В деревнях незаконнорожденных было относительно немного, в городе, в мещанской среде, гораздо больше. Возможно, поэтому на долгие годы закрепился стереотип греховного города и идиллической деревни. Бывало, что истинный отец ребенка выступал в роли его крестного, положение женщины это мало спасало.
Третьим важным пунктом в наших метрических поисках является, конечно же, заключение брака. Для XIX века обычным возрастом было 18–20 лет для юноши и 16–18 для девушки, разница в возрасте между женихом и невестой была минимальна, по крайней мере, для первого брака. Мог ли случиться последующий брак? Да, повторный брак для мужчины был частым явлением, женщины нередко погибали в родах. Разводы в крестьянской среде не практиковались, вдова могла выйти замуж, но таких случаев встречается мало.
Гроза двенадцатого года настала, кто тут нам помог
Эта часть поиска стала для меня наиболее волнительной, все же еще в студенческие годы сферой моих интересов был русский XIX век, первая его четверть, а там уж куда без войны двенадцатого года. Тот интерес увенчался диссертацией о декабристах как явлении культуры, почти все, прошедшие по декабрьскому делу,– герои 1812 года. Конечно, образ их, как и всего XIX века, очень романтизирован. «Вы были дети и герои, вы все могли»,– писала о них М. И. Цветаева в стихотворении «Генералам 1812 года», там еще про Тучкова Четвертого. А тут – такая встреча, «сосед он по именью нам»! Ну не нам, а нашим барам и не по именью, а по уезду, так что с того…
Глинка так описывал в «Очерках о Бородинском сражении» встречу с ополченцами: «23-го, на другой день, пришло из Москвы 12000 московского ополчения. Их привел граф Марков. На этом войске было две коренных принадлежности Руси: борода и серый кафтан ; третья и важнейшая принадлежность
Руси – христианской – был крест. Он блистал на планке ратников. <…> Любовь к Отечеству вызвала мирных поселян на священное ратование. Нельзя было смотреть без чувства на такой избыток доброй воли. Появление этих войск перенесло нас далеко в старые годы. Один офицер, записки которого остались ненапечатанными, говорит: «Казалось, что царь Алексей Михайлович прислал нам свое войско!» [12, c. 34]. «Мирные поселяне», «священное ратование» – слова призванные показать не только торжественность момента, но и отличие ополченцев от войска, словно это не реальные люди, а былинные воины из Древней Руси.
Потрясающе, что боевого офицера не смущает, что у ополченцев толком нет оружия, нет нормального для такого случая обмундирования, а ополченцы, к слову, принимали участие в Бородинском сражении, в Битве народов, дошли до Парижа и Дрездена, в частности, Тульский полк.
За давностью лет любое историческое событие превращается в миф, который трактуется в угоду текущему моменту. Из крошечных оговорок и проходных деталей в литературных произведениях, воспоминаний участников что-то волей-неволей вынимается, но опять же с риском поворота в любую сторону. А как на самом деле? Можно ли восстановить?
Вот Николай Тургенев представляет себе крестьянскую жизнь: «Простые хозяева, дети природы, живут под одной кровлею с невинными свинками, им не нужна роскошь; не нужны зеркала; они смотрятся в прозрачные ручейки, но здесь нет ручейков; ну все равно: в гнилое болото, в грязный канал» [1, c. 133]. А наш барин секунд-ротмистр Полуэхтов десятью годами раньше на нескольких страницах ревизской сказки перечисляет выменянных поодиночке людей, почти, по Грибоедову: «Амуры и Зефиры все распроданы поодиночке!!!» Становление армии богатырей и самое полное осуществление крепостного права и рабства пришлось на одно и то же время – вторую часть правления Екатерины Великой.
Или вот, скажем, правила регулярной войны предполагали, что шли всегда четкой коробкой – каре. В случае прямого попадания или артиллерийской атаки команды «Ложись!» или «Врассыпную!» не существовало. Напротив, необходимо было сомкнуть ряды, невольно затаптывая раненых, и идти дальше. Резервы находились в поле действия артиллерии противника. Вспомним полк князя Андрея из «Войны и мира», который теряет до трети состава, не вступив еще в бой; к слову, и сам князь Андрей получает смертельную рану, находясь в резерве. Его долгое раздумье над крутящимся ядром связано с негласным обычаем, требовавшим от офицера не кланяться ядрам, то есть не наклонять голову, не говоря уже о том, чтобы бросаться на землю. Максимально возможное укрытие для солдат – приказ «Сесть», для которого тоже, впрочем, находилось объяснение: «Они подневольные».
А вот с этого места поподробнее. Война 1812 года была провозглашена Отечественной и народной с амвона церквей, об этом не писал только ленивый (как в различных воззваниях, так и в позднейшей литературе). Однако как набор в ополчение, так и максимально усиленный рекрутский набор проходил стандартно по принуждению. Несколько пришедших своей волей крестьян были биты как беглые и отправлены обратно к барину, ему было виднее, кому сподручнее идти воевать. Важно, что и рекрутский, и ополченский набор (а их было много не только в войну 1812, но и в компанию 1805, конечно, и в Первую мировую, и т. п.), был экономически крайне не выгоден для помещика. Отдать здорового (проверяли, хотя и своеобразно), молодого тяглового (т. е. платящего оброк, подушную и прочую подать) на непонятно, сколько лет с угрозой невозвращения не хотелось никому. Рекрут уходил на 25 лет, позже на 15, потом на 10 лет, получая через определенный срок возможность очередного, а потом и бессрочного отпуска. За женатым в полк могла следовать жена. В любом случае рекрут уже не крепостной, его семья и дети переводятся в категорию «дети солдатские», по ним даже Ревизская сказка особая. Бывали случаи, когда после службы солдат или унтер-офицер (это максимум, до которого мог дослужиться рекрут), возвращался домой, но крепостным он снова не становился, в армии его учили грамоте. Многие же уже не чувствовали связи с прежней жизнью и пополняли ряды горожан или бродяг. Помещик получал налоговые льготы за содержание семей отставных солдат и нижних чинов.
Брат Мины Никитича Петр дослужился до унтера лет за 5, больше никто таких высот не достиг. Родившись 20 декабря 1841 [4], Петр Никитич словно прожил несколько жизней: крепостного, рекрута, Бутырского полка первой стрелецкой роты унтер-офицера, крестьянина-собственника. Три раза женился [6], раз от раза жены были все моложе и моложе. Перечисляя в подворной переписи 1912 года [7] своих детей, заявил, что не имеет представление о том, где теперь живет его дочь, девица 40 лет (его тогдашней жене, Дарье Степановне, 45). Видел освобождение крестьян и все русские революции. Умер 8 мар-та1918 года в совсем уже другую эпоху.
Сложно вывести какую-то статистику по служилым людям. У Комовых двое возвратились, двое – нет, среди ополченцев соотношение такое же. Хотя ополченец рекруту не ровня, он из крепостной зависимости не выходит, его призывают на условно краткий срок для данной стратегической надобности. Например, ополченцев двенадцатого года призывали именно на отечественную часть и это ничего, что приказ об их роспуске застал их уже в Европе, откуда они и возвратились году к 1816, вместо 1813. Потери ополченцев не учитывались: убит, ранен, убежал – равно оценивалось как «выбыл», и помещику выдавалась специальная квитанция о том, что он понес материальный убыток и освобождается от ближайшего рекрутского набора на столько-то человек. Естественно, что после войны этими квитанциями стали спекулировать, чтобы избежать рекрутского набора. Если учесть, что жена Александра Силовича в сказке 1816 года названа солдаткой, то можно предположить, что муж ее просто остался в армии, однако сам он назван невозвратив-шимся и квитанция на него была выписана.
Ополченцы тогда, как в более поздние времена,– это не годные к строевой службе по болезни или возрасту. Рубежными возрастами для ополченцев были 17–45 лет; в основном ориентировались на рекрутские требования, там по правилам от 12 сентября 1812 года, обозначено 18–40. Павловичи любили мундиры, для Тульского полка они были прекрасны, только не хватило времени их пошить и пошли в своем. Не хватило вооружения, поэтому винтовка была одна на пятерых, а подготовка по рекрутской программе вместо полугода заняла пару месяцев, взяли рогатины, топоры и косы. Сетовали командиры на их дисциплину, но при Бородине и вообще в битвах, по словам тех же командиров, ополченцы вели себя геройски.
Увидев имя Саввелия Семенова [5], я очень удивилась: документ указывал его возраст в 18 лет, наш Савва родился 18 апреля 1895 [10], таким образом, в 1812 ему только исполнилось 17. Не поверив сама себе, просмотрела все ревизские сказки полковницы Толбугиной по Алексинскому уезду. Поскольку по другим уездам она не заявлялась, очевидно, что относящаяся к Тульскому уезду деревня Енино включена сюда. Савва Семенов был один, наш, приписала ему барыня годик и отправила. Возвращение из ополчения не давало никаких льгот по податям или личному освобождению, в исповедной ведомости 1813 Саввы нет, это значит, что он побывал в Заграничном походе, скорее всего, дошел до Дрездена и вернулся домой к 1816 году. О том, что он герой Отечественной войны, знали только его родители, а теперь, спустя 200 с лишним лет, и я.
Наши баре
Приход села Шульгино довольно уникальное место. Часто одной деревней владело 3–4 человека, что и понятно: в России не было майората, т. е. передачи всего имущества старшему сыну (в Европе про это «Кот в сапогах» и Крестовые походы – попытка избавиться от пассионарной силы младших сыновей), и все движимое и недвижимое имущество делилось между всеми детьми. Таким образом, имения, совсем как прежде удельные княжества, дробились до бесконечности.
Здесь же вотчина сложилась разом и очень поздно, весь приход села Шульгино с деревнями Баранцево, Давыдовская и Енино был пожалован сразу прапорщику лейб-компании (гренадерская рота Преображенского полка) Ефиму Лукьяновичу Зотову 31 декабря 1841 вместе с потомственным дворянством. За что жаловались земли лейб-компанцам в 1841, догадаться не трудно, чуть раньше именно они возвели на трон цесаревну Елизавету Петровну. Годом раньше у бывшего верейского крестьянина Ефима Зотова родилась дочь Мария, она и унаследовала эти земли после безвременной кончины родителя в 1846. Других детей у Ефима Лукьяновича Зотова не было, и только что появившийся дворянский род исчез вместе с замужеством Марии Ефимовны. Она вышла замуж за Дмитрия Борисовича Полуэхтова. Род Полуэктовых (Полуэхтовых) старый и служилый, возводится ко временам Дмитрия Донского, когда один из татарских воинов после Куликова сражения перешел на русскую службу. Земель у Полуэктовых было много, но все в компании с какими-то родственниками, а тут небольшой, но свой удел. В отличие от своих предков Дмитрий Борисович служил недолго. В 1763 году застаем его секунд-ротмистром конной гвардии, в 1767 ротмистром, к 1782 он уже вдовец, Мария Ефимовна умерла годом ранее. Причина ранней отставки, возможно, кроется в смене правительницы, а, возможно, в том, что дворянам даровано теперь право не служить. Как бы то ни было, Дмитрий Борисович активно занят хозяйством, переводит крепостных на оброк, в Енино – по 3 рубля 70 копеек в год с души [8]. И хотя в ревизии 1795 [9] владелицей названа девица Варвара Дмитриевна Полуэхтова, делами по-прежнему руководит сам Дмитрий Борисович. Обычно его называют строителем каменного храма Покрова Пресвятой Богородицы в Шульгино. Однако уже в 1803 году заглавие метрической книги [3] называет его покойным, поэтому вряд ли он мог присутствовать при освещении церкви в 1804 году во плоти. Как бы то ни было, во многих справочниках возраст прихода и деревень в округе определяются именно этой датой, а это, как стало ясно в ходе исследования, совсем не так. Среди упоминаемых обычно детей Полуэхтова Варвары нет, из чего можно сделать вывод, что умерла она еще до замужества и была дочерью Марии Ефимовны.
Младшая дочь, наследовавшая вотчину в качестве приданого, полковница Александра Дмитриевна Толбугина, урожденная Полу-эхтова, по-видимому, дочь от второго брака. Муж Александры Дмитриевны принадлежал к старинному роду, основные владения которого находились в Крапивенском уезде Тульской губернии. Полковница Толбугина играет важную роль в истории моей семьи в период войны 1812 года. Она поставила под ружье 21 ратника ополчения [19, c. 201–202]. Для сравнения: наш сосед по уезду знаменитый Тучков Четвертый – только двоих. Тут не обошлось без детектива: количество не вернувшихся по ревизской сказке 1816 года [11] и по спискам ополченцев не совпадает.
Толбугиной наследовали Коробьины, они же, по-видимому, владели некоторым количеством земель в соседней Калужской губернии. Коробьины – наши последние баре, с ними связаны все события второй половины XIX века: последние Ревизии, освобождение крестьян, выкуп земель, революция. Пока не могу понять, как наши земли к ним перешли, было ли это вновь приданым или продажей, но сам род Коробьиных восходит также к татарскому воину, перешедшему на службу князю Рязанскому, а позже выдавшему его князю Василию II Московскому. Краеведы Тульской, Рязанской и Калужской областей подчеркивают, что дети боярские этих земель редко проникали в земли московские, сохраняя свои, едва ли не феодальные, владения в исконных границах. В таком случае и Коро-бьины, и Полуэхтовы – нетипичный случай, поскольку Шульгино с округой в XVIII веке и раньше – часть Каширского уезда Московского государства или губернии.
Итак, село Шульгино Алексинского уезда Тульской губернии традиционно датируется по храму Покрова Пресвятой Богородицы 1803/04 годом, в который он был освящен. Краевед А. Г. Зайцев [14], посвятивший последние 20 лет реконструкции истории своего рода и попутно создавший наиболее рабочий инструментарий по генеалогии в ГАТО, сдвигает историю села на 1742 год [15, c. 138–139], за который сохранилась первая метрическая книга. Одноименная церковь тогда была деревянной, а уезд Каширский относился к Коломенской епархии Мстиславского стана. Подобная точность описания в самой ранней метрической книге позволяет продолжить поиски. В реестре метрических книг церквей Каширского уезда [18] указаны книги за 1739 и 1741 гг. Книги не сохранились, но отдельно указана книга из Енина (за 1739 год), что указывает на наличие церкви и там, к 1741 году церковь в Енино исчезает.
В Писцовых книгах [16, c. 23, 28, 273] 1623, 1624 гг. населенные пункты Шульгинского прихода (Баранцево, Давыдовская, Енино, Занино), включая само Шульгино, не упоминаются. Енино названо пустошью, значит, деревня здесь уже была до Смуты, а в книге 1627 г. уже деревней, которой владеет стольник патриарха Филарета, а позже и царя Михаила Федоровича, Степан Иванович Ислепьев [13, c. 279, 472], представитель старой московской знати; род известен с Ивана Калиты, его сродники Воронцовы и Вельяминовы.
В Писцовых книгах 1578/79 гг. [17, c. 1485–1486] селом (sic! Есть Никольская церковь) Шульгино владеют отец и сын Григорий Федорович и Галактион (в книге Лахтион) Григорьевич Павловы. Владельцем села Да-выдовское, там Покровская церковь, указан Булгак Игнатович Зяблов, из новой грозненской знати, возвысившийся во время или после опричнины, во время общей ротации служилых родов [2, c. 38]. Упомянута Занин-ская пустошь, значит, поселение там было не то до опричнины, не то до очередного на- бега крымчаков; Баранцево поле. Енино пока нет, но один из соседей имеет такое отчество Енин (Евгеньевич), что, по-видимому, и даст название деревне.
Таким образом, возраст нашей «родовой» деревни с уверенностью, по документам, можно сдвинуть на конец XVI в., а территорию будущего Шульгинского прихода – минимум на начало XVI в., и это второе открытие поиска.
Самым ранним документом по нашему роду была метрическая запись о свадьбе Аниния Даниловича и Татьяны Михайловны от 8 ноября 1742, молодым было лет по 15. Самая поздняя запись о свадьбе – 8 июня
1918 г. Ивана Фроловича Комова, внука Ани-ния Даниловича в 5-м поколении, и Любови Сергеевны Трещепловой из сельца Тайдаково, невесте всего 16. И вспомнилась мне Писцовая книга XVI века (тогда Тайдак был еще жив), а жене его с малолетними чадами отписали несколько деревень.
Вот такая история с фотографией у меня получилась. За обработанные 250 лет рода (исключительно по документам 1742–2022 гг.), 400 достоверных лет деревни (1623–2022) и 444 года всей округи (1578–2022) история семьи приросла 232 именами, и поиск еще не окончен.
Список литературы Генеалогия как инструмент изучения истории культуры и культуры повседневности
- Архив братьев Тургеневых. Дневники и письма Н.И Тургенева (1806/1824). Санкт-Петербург 1911/1921, тт. 1-3.
- Бенцианов М.М. «Лишние люди»: ротация состава Государева двора в русском государстве к. XV -c. XVI вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики № 1 (67) 2017
- ГАТО Ф.3, Оп. 15, д. 1, л. 577
- ГАТО Ф.3, Оп. 15, д. 38, л. 426
- ГАТО Ф.39, Оп. 1, д. 146, л. 142 об.
- ГАТО Ф.93, Оп. 1, д. 14, л. 682
- ГАТО Ф.93, Оп. 4, д. 11, л.27
- ГАТО Ф.291, Оп. 14 т. 58, д. 4, л. 105 об. - 106
- ГАТО Ф.329, Оп. 1, д. 5, л. 275
- ГАТО Ф.1381, Оп. 1, д. 1, л. 122
- ГАТО Ф.400, Оп. 1, д. 7; ГАТО Ф. 327, Оп.1, д. 7
- Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. Москва, 1985.
- Дворцовые разряды. Санкт-Петербург, 1851, т.2 (1628-1645)
- Зайцев А.Г. Материалы для генеалогических исследований в фондах Тульского государственного архива [Электронный ресурс] // URL: http://www.svrt.ru/lib/mater_po_gen.pdf; http://www.svrt.ru/lib/ revizii_tul_gub.p df; http://www.svrt.rU/lib/ist_sel_tul_uezda.p df
- Зайцев А.Г. Метрические книги храмов Тулы и сел Тульской губернии за 1749-1919 гг. [Электронный ресурс] URL: http://www.svrt.ru/lib/met_kn_tul_gub.pdf
- Обозрение писцовых книг по Московской губернии. Москва, 1840.
- Писцовые книги XVI в. Санкт-Петербург, 1877.
- Реестр метрических книг г. Каширы и округи ГАТО Ф.3, Оп. 18, д. 2а, л. 2, 4
- Тульское ополчение 1812-1814 гг. Документы и материалы / Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» /сост. М.Р. Беделев, И.Г. Бурцев. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2013.