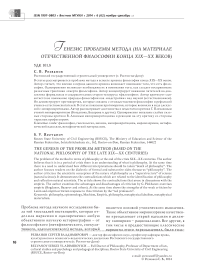Генезис проблемы метода (на материале отечественной философии конца XIX-XX веков)
Автор: Резванов Сергей Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (62), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема метода в аспекте кризиса философии конца XIX-XX веков. Автор считает, что именно в период данного кризиса возникает понимание того, что есть философия. Одновременно возникает необходимость в понимании того, как следует воспринимать различные трактовки «смерти философии». Автор концентрирует внимание читателей на диалектике формальных и содержательных сторон тезауруса «философия». Автор критикует сциентистское понимание природы философии как «надстройки» над наукой (естествознанием). Он демонстрирует противоречия, которые связаны с отождествлением философии и рефлексий ученых-естествоиспытателей. В статье показаны противоречия, которые возникли в ходе дискуссий с эмпириокритиками. Автор рассматривает достоинства и недостатки критики Г. Плехановым учений эмпириокритиков (Богданова, Базарова и других). Одновременно показаны слабые сильные стороны критики В. Лениным эмпириокритицизма и реакцию на эту критику со стороны «красных профессоров».
Философия, гносеология, махизм, эмпириокритицизм, мировоззрение, метафизический идеализм, метафизический материализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14489877
IDR: 14489877 | УДК: 101.8
Текст научной статьи Генезис проблемы метода (на материале отечественной философии конца XIX-XX веков)
Проблема метода научного исследования была той «последней инстанцией», которая отделила марксизм и одновременно любую объективную научную историографию – от философского (метафизического, спекулятивного, идеологического) метода, который является основой утопического мышления. такое объективное мировоззрение качественно преодолевает старый идеализм и дилемму «эмпиризм – рационализм». все другие, в том числе и предшествующие классические варианты этого «преодоления», были толь- резванов сергей владимирович — доктор философских наук, профессор кафедры права, культурологии и психолого-педагогических дисциплин ростовского государственного
16 строительного университета (г. ростов-на-дону)
RezvAnOv SeRgei vlAdiMiROviCh — Full doctor of philosophy, professor of department of law, cultural studies and psychology and pedagogical disciplines, Rostov State University of Civil engineering (RSUCe, Rostov-on-don)
ко умеренным выражением либо эмпиризма, либо рационализма. в них преодолевалась не сущность этой противоположности, а явление. радикализм дилеммы «эмпиризм – рационализм» получал умеренную (комплементарную) форму центризма. в этой умеренной форме частично признавалась роль «противоположности»: эмпиризм дополнялся рационализмом, как у гоббса - локка и т.д. рефлексией, а рационализм дополнялся эмпиризмом, как у немецких классиков, особенно у гегеля, которые полагали эмпирические данные в качестве второстепенных форм истории культуры [1, с. 501–503; 7, с. 25].
мы хотим отметить, что, несмотря на критичность отношения к позитивной философии, именно позитивисты очень «тревожно» относились к опасности субъективизма типа берклианства. они понимали и понимают, что мышление не может обосновывать самое себя. обоснование (или истина) мышления существует в реальности, находящейся вне мышления.
однако позитивисты фиксируют эту реальность «вне-мышления» абстрактно-формально. она остается в форме «ding-an-sich», но не как у Канта, а как у неокантианцев – «реальность, дистантная сознанию». Это – тайная “ding-an-sich”. рискнем показаться эксцентричным, но у Канта нет положительного определения «вещи в себе». он подчеркивал ее дистантный характер по отношению к разуму, то есть «то, что вне разума». но это – предмет особого исследования.
Позитивисты, придавая положительный статус «вещи в себе», никак не объясняют переход ее из состояния объекта в состояние субъекта. ответа нет потому, что нет вопроса, точнее вопрос поставлен не корректно. Этот вопрос («о реальности сознания») в стратегической логике позитивизма в принципе невозможен. его нет, образно говоря, в «меню» позитивизма. Короче говоря, позитивисты просто не объясняют того, как предмет бытия превращается в предмет мышления.
Классики марксизма иронически характеризовали эту трудность «философии» как трудность кабинетного мыслителя (и кабинетного мышления вообще). для кабинетно- го мыслителя, оторванного от реальной практической жизни, очень важным является вопрос, как реализовать теорию в практике. Как говорил д. дидро, все прекрасно в руках творца и все вырождается в руках человека. с давних времен все «философы» не могли решить вопрос: «как попасть из царства божия в царство человеческое». так, маркс и Энгельс иронически интерпретировали неразрешимую «философскую» проблему: «теория – практика», в частности, младогегельянцами. чтобы выйти из кабинета мыслителя в реальный мир, подчеркивал маркс, нужно … открыть дверь и выйти из «научного» кабинета в реальный мир (выйти «на улицу»).
сложность данной проблемы заключается в том, что в тезаурусе кабинетного мыслителя (в «философском» тезаурусе) реальный мир есть логически непротиворечивое (непосредственное) продолжение (дополнение) кабинета. реальный мир с точки зрения дворцового кабинета или, вообще, дворца – если использовать нашу аналогию – имеет вид «заднего» или хозяйственного двора. он есть second hand. Поэтому никакого другого мира, живущего по другим законам, отличающимся от законов «кабинета», для «философа», живущего только в кабинете, нет и быть не может.
маркс не конструирует мир или его эссенцию, как вагнер гомункула в своем ученом кабинете. По марксу мир нельзя создать искусственно путем – путем умственно -философских ухищрений (манипуляций). наоборот, любые умственные экзерсисы, вплоть до самых иллюзорных, являются «испарениями» самой материальной жизни – субъективными формами объективного фетишизма. Формула «философии»: «кабинет — реальность», формула маркса «реальность — кабинет». такова фабула разрыва марксизма со спекулятивнорефлексивной философией (в нашем тезаурусе – просто «философией»).
речь идет не о внешней искусственной операции удаления (резекции) плохой, иллюзорной духовной формы. «смерть» философии – естественный процесс и результат. маркс лишь констатирует этот факт. да и сам термин «кончина», или «конец», философии не имеет субъективного оттенка, который уви- дели «официальные» российские философы советского периода, особенно в 50–80 годы хх века. они были законными наследниками официальной «партийной философии» 30–40 годов хх века. именно в это время в россии возникла идеологическая метафизика. она брала основание в «революционной целесообразности», которая придавала легитимность – высший смыл, или «конституцию» – духовным формам человеческой жизни: искусству, морали, даже науке.
Поэтому «красным профессорам» – советским академикам трудно было понять, как можно «отменить» высший, «всеобщий» смысл, который философия придает «частным» формам духовной культуры. они активно эксплуатировали тезис ленина о том, что «без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания» [3, с. 30]. советский ренессанс «философии как философии», или «философии философии», был обусловлен историческими причинами. в ссср в 20–30-е годы хх века пролетарская интеллигенция испытывала романтику натурализма.
общественные науки были буржуазными. они существовали, по мнению массовых пролетарских теоретиков, для обмана трудящегося народа. только естествознание как производительная сила труда было способно давать не-иллюзорную «картину мира» как картину природы. но, когда было необходимо исследовать общество, естествознание так же испытывало иллюзорное воздействие философского идеализма (и религии как его формы). ему необходимо было противопоставить философский материализм.
генезис этой «новой», «пролетарской» и т.д. материалистической философии коренится в либерализме теоретиков ii интернационала. они предлагали – объективно и субъективно – профессорскую парадигму мышления. сущность этой парадигмы состояла в том, что в познании мир: (1) разлагается на «части»; (2) которые изучаются отдельно друг от друга; (3) и которые инкрустируются позднее в эту якобы целостную
«картину мира». «Продвинутые» лидеры ii интернационала считали, что – как минимум – последний (3) этап познания мира осуществляет философия, но не идеалисти-чески-религиозная, а материалистически-на-учная. Комплекс интеллигента – быть выше противоположностей, стать третейским судьей «мира в целом».
Этот комплекс был генетически воспринят некоторыми социал-демократами россии в начале хх века. они были профессиональными естествоиспытателями и дилетантами-философами. Поэтому они восприняли кризис механистической парадигмы материализма как кризис всякого материализма. они думали, что причиной этого кризиса является неправильная, старая/устаревшая философия науки («научная философия»). отсюда, ее необходимо заменить на новую/обновленную философия науки («научную философию»).
социал-демократы считали, что такой философии («науки наук») в марксизме нет, и решили восполнить этот пробел – создать «новую марксистскую» философию (читай: новую «науку наук»). базисом такой философии – был метафизический материализм, якобы противопоставленный идеализму (читай: классическому идеализму Платона – гегеля). Эти социал-демократы были естествоиспытателями, и им была «понятна» методология и Э. маха, и «помогавшего» ему по философии р. авенариуса.
мы должны четко понимать, что методом конструирования всякой философии является рефлексия. ее сущность состоит в понимании (точнее, истолковании - герменевтике) законов познания. такая герменевтика есть осознание того, что сделано. например, естествоиспытатель провел ряд экспериментов, а затем он их интерпретирует. Эта интерпретация переворачивает реальное отношение между предметами «вверх ногами». рефлексивная обработка результатов экспериментов понимается естествоиспытателем-эмпириком как «чистое», спонтанное мышление, не имеющее объективных оснований. отсюда естествоиспытателям и «поддакивающим» им философам кажется, что законы природы, общества или самого мышления «выдумыва- ются из головы». Поэтому естествоиспытатели-эмпирики и их коллеги философы-эмпирики утверждают, что никакой объективной связи между мышлением и бытием не существует. она придумывается из трансцендентных источников.
Примитивная гносеология старого метафизического материализма, утверждала, что мышление непосредственно копирует бытие – и это есть истина. такая материалистически метафизическая гносеология была заменена эмпириокритиками на гносеологию … метафизического идеализма. он утверждал, что мышление есть источник законов этого бытия. но метафизическое идеалистическое понимание мира было «скорректировано» объективностью природы. естествоиспытатель вынужден был понимать, что природа существует вне человека, отсюда – независимо от человека (в том числе от ученого-естествоиспытателя).
из этих двух половинок: субъективного идеализма рефлексии и объективного бытия природы сложилось «новое» эклектическое миропонимание, которое стало новым … агностицизмом. Короче говоря, модернизация марксизма (эмпириокритицизм), редуцировала его к примитивным эклектическим учениям, в конечном счете к грубому агностицизму. Этот грубый агностицизм был более примитивным, чем неокантианство, интуитизм, философия жизни и т.д. вот почему западные адепты философии были идолами эмпириокритиков [4–6].