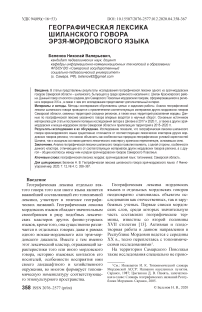Географическая лексика шиланского говора эрзя-мордовского языка
Автор: Беленов Н.В.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье представлены результаты исследований географической лексики одного из эрзя-мордовских говоров Самарской области - шиланского, бытующего в среде эрзянского населения с. Шилан Красноярского района. Данный говор относится к редким для Самарского Поволжья мордовским говорам, сформировавшимся в регионе в середине XIX в., в связи с чем его исследование представляет дополнительный интерес. Материалы и методы. Методы исследования обусловлены целью и задачами работы. Анализ географической лексики шиланского говора проводится с привлечением соответствующих материалов других мордовских говоров Самарской области, смежных территорий соседних регионов, а также иных территорий расселения мордвы. Данные по географической лексике указанного говора впервые вводятся в научный оборот. Основным источником материалов для статьи послужили полевые исследования автора в Шилане в 2017 и 2020 гг., а также в других эрзя-мордовских и мокша-мордовских селах Самарской области и прилегающих территорий в 2015-2020 гг. Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что географическая лексика шиланского говора эрзя-мордовского языка существенно отличается от соответствующих лексических кластеров других мордовских говоров региона, что можно объяснить как особенностью природно-географических условий окрестностей Шилана, так и исходным составом данного лексического кластера у эрзянских переселенцев, основавших село. Заключение. Анализ географической лексики шиланского говора позволил выявить, с одной стороны, особенности данного кластера, отличающие его от соответствующих материалов других мордовских говоров региона, а с другой - общие изоглоссы между ним и рядом эрзя-мордовских говоров Самарского Поволжья.
Географическая лексика, мордва, эрзя-мордовский язык, топонимика, самарская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147217988
IDR: 147217988 | УДК: 94(09)(=16=53) | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.358-367
Текст научной статьи Географическая лексика шиланского говора эрзя-мордовского языка
Географическая лексика отдельно взятого говора того или иного языка является важнейшей составляющей его топонимной лексики, участвует в генезисе географических названий. Географическая лексика мордовских языков обладает значительным своеобразием в ряду подобных лексических кластеров других финно-угорских языков, кроме того, она существенно различается в отдельных говорах даже в рамках одного мокша-мордовского или эрзя-мордовского диалекта. Вместе с тем именно этот лексический кластер, отражающий характеристики того или иного мордовского говора, историю языковых контактов его носителей, особенности восприятия ими своего ландшафтного и хозяйственного окружения, во многом формирует топонимическую номенклатуру соответствующего этнокультурного пространства.
Географическая лексика мордовских языков и отдельных мордовских говоров неоднократно становилась объектом исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. Первые списки мордовских слов, среди которых значительную часть составляли географические термины, известны со второй половины XVII столетия [13]. Активная и плодотворная работа в данном направлении в Республике Мордовия ведется с середины ХХ в., тесно переплетаясь с топонимическими исследованиями1.
На территории Самарского Поволжья такие исследования специально не прово- дились. Между тем изучение мордовских говоров региона имеет солидную историографию. На рубеже XIX–XX вв. здесь работала экспедиция финского лингвиста Х. Паасонена, собиравшая лексический материал и образцы фольклора в ряде мордовских сел, которые согласно современному административному делению территориально относятся к Самарской области. В фундаментальном словаре Х. Паасонена имеются ссылки на материалы из Старого Вечканова (ныне в Исаклинском районе Самарской области), Алешкина (ныне в Похвистнев-ском районе Самарской области), Мордовской Селитьбы (ныне в Сергиевском районе Самарской области), Грачевки (ныне в Красноярском районе Самарской области)2. В работе имеется ряд неиден-тифицируемых материалов, территориальная привязка которых неясна, однако прямых указаний на посещение исследователем Шилана нет. В начале ХХ в. в мордовских селах, располагавшихся на территории современных Шенталин-ского, Клявлинского и Ставропольского районов Самарской области, работал М. Е. Евсевьев, описывая и систематизируя местные мордовские говоры3. Географической лексике самарской и оренбургской мордвы значительное внимание уделено в статье Д. В. Цыганкина «Ойко-нимия мордовского Заволжья» [11]. Особенности вокализма и консонантизма ши-ланского говора подробно рассмотрены в работах Е. М. Девяткиной [4; 5].
Шиланский говор эрзя-мордовского языка является редким для Самарского Поволжья образцом эрзянских говоров, сложившихся на территории региона в середине XIX в. Большая часть мордовского населения Самарской области пришла сюда либо ранее (до конца XVIII в.), либо позднее – в первой трети – середине XX в. По лексическому составу мордовские говоры региона можно разделить на две основные группы. Первая включает говоры тех мордовских сел, основание которых относится ко времени до начала XVIII в., – они характеризуются значительной лексической архаикой, в том числе в кластере географической лексики. Вторая группа охватывает мордовские говоры сел, основанных в период с начала XVIII в. до настоящего времени, их географическая лексика ближе к таковой в литературнописьменных мордовских языках, хотя также имеет особенности. Шиланский говор принадлежит ко второй группе, что подтверждает данное деление по хронологическому признаку. Также надо отметить, что носители шиланского говора проживают в относительной изоляции от носителей других эрзя-мордовских говоров, в окружении русскоязычного и тюркоязычного населения.
В связи со всеми перечисленными обстоятельствами изучение географической лексики указанного говора представляет значительный научный интерес, что и обусловило цель настоящей статьи: введение в научный оборот и анализ элементов данного лексического кластера шиланско-го говора эрзя-мордовского языка.
Материалы и методы
Материалы исследования были получены в ходе сбора топонимической номенклатуры Шилана и его окрестностей, топонимических преданий и топонимной лексики, бытующей в шиланском говоре эрзя-мордовского языка, во время полевых сезонов 2017 и 2020 гг. На протяжении полевых сезонов 2015–2020 гг. аналогичные исследования были проведены нами в эрзянских и мокшанских селах Самарского Поволжья и прилегающих территорий, что дало материал для ареального и сравнительно-сопоставительного анализа географической лексики шиланского говора с соответствующими лексическими кластерами других мордовских говоров региона.
Методы исследования были обусловлены его целью и задачами.
Анализ географической лексики ши-ланского говора выполнялся на основе методов и принципов исследования,
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ сформулированных в работах ведущих специалистов в данной области: И. К. Ин-жеватова4, Г. М. Керта [6], М. В. Мосина [7], О. Е. Полякова [9], А. Н. Ракина [10], Д. В. Цыганкина5.
Результаты исследования и их обсуждение
История
Село Шилан было основано в середине XIX в., поэтому его история в отличие от истории большинства мордовских населенных пунктов региона хорошо документирована. В 1852 г. выходцами из четырех сел Симбирской губернии – Сайнеле, Пылеево, Радаевка и Трокшкужо – была основана деревня, получившая название Шиланский Ключ, видимо из-за небольшой речки, на которой она возникла.
Из перечисленных сел однозначной идентификации сегодня подлежит только одно, Сайнеле (русское название – Сай-нино). Основанное в начале XVII в. и упоминавшееся в «Книге бортных ухо-жаев Алатырского уезда» [3], а также в описании Д. Пушечникова и А. Костяе-ва6, оно существует до настоящего времени (108 постоянных жителей). Остальные населенные пункты, упоминаемые в архивных документах, сегодня, по всей видимости, уже не существуют. Так, известно несколько урочищ с названиями Трокшкужо и Радаевка на территории современных Ульяновской области и Республики Мордовия. Села с названием Пыле-ево в настоящее время также нет, однако нельзя исключать неточность при разборе почерка писца: в архивных документах, возможно, упомянуто не Пылеево, а Помаево (Сурского района Ульяновской области), в котором на сегодняшний день постоянных жителей официально не числится.
Таким образом, для проведения дальнейших сравнительно-сопоставительных исследований шиланского говора эрзя- мордовского языка надежным ориентиром может являться только эрзя-мордовское село Сайнеле (Сайнино) с говором его жителей.
Начальная история Шилана позволяет предположить, что жители Сайнеле и Трокшкужо если не преобладали численно в составе переселенцев, то во всяком случае являлись более организованными и сплоченными. На новом месте они поставили дома в том порядке с соседями, в котором проживали до переселения, – эти районы Шилана до настоящего времени носят названия Сайнеле и Трокшкужо.
Современное эрзя-мордовское население Шилана уже не помнит, выходцами из какого именно села были его предки. Сохранились списки фамилий жителей Шилана по районам расселения, зафиксированные в ходе переписи 1856 г., по которым можно судить, носители каких фамилий являются выходцами из Трокш-кужо и Сайнеле, благодаря указанным выше особенностям расселения. Из Сай-неле происходят Лиходкины, Сыресины, Шестеркины, Синегубовы, Алешкины, Афонины, Шишковы, Куприяновы, До-гадкины, Прокаевы, Горбуновы, Ерошкины, Гарькины, Зольниковы; из Трокшку-жо – Корневы, Сусликовы, Кондратьевы, Сыркины, Янтюжины, Фомины, Глазуновы, Шакшины, Сафроновы, Логиновы, Конновы7.
Спустя 12 лет после основания села, в 1864 г., в Шилане была построена церковь во имя Михаила Архангела. Храм, сгоревший в 1937 г., располагался напротив здания современного ДК «Витязь», который вместе с прилегающим участком находится на территории старейшего шиланского кладбища.
В настоящее время мордва-эрзя составляет около половины жителей села, также здесь проживают русские, чуваши, армяне и представители других национальностей.
Характеристика шиланского говора эрзя-мордовского языка
Шиланский говор эрзя-мордовского языка был подробно исследован Е. М. Девяткиной [4; 5]. По ее мнению, шиланский говор принадлежит к говорам позднего периода формирования и предварительно может быть отнесен к западному диалекту эрзянского языка. Территориально говоры западного диалекта бытуют в эрзянских селах, расположенных по р. Пырме, в нижнем течении Инсара и среднем течении Алатыря.
Для вокализма шиланского говора, по Е. М. Девяткиной, характерны следующие закономерности: меньше всего подвергаются изменениям гласные первого слога; в непервом слоге гласный [а] не может употребляться между мягкими согласными; в непервом слоге эрзянских слов редко встречается лабиализованный гласный [u] [4, 49 ]. Консонантизм шиланского говора ближе всего находится к консонантизму центрального диалекта эрзянского языка, распространенного в Атяшевском районе Республики Мордовия [5, 38 ].
Добавим, что жесткая эрзянская аффриката [ч] в шиланском говоре перешла в мягкую аффрикату, близкую русскому [ч’]. Подобные фонетические переходы в эрзянских говорах Самарского Поволжья редки, наблюдаются лишь в говоре сильно обрусевшего эрзянского населения с. Большая Каменка Красноярского района Самарской области, а также в степно-шенталинском говоре эрзя-мордовского языка: люди старшего поколения произносят аффрикату [ч] жестче, чем среднего и молодого, у которых она практически идентична русскому [ч’]8.
Географическая лексика шиланского говора
Сказанное выше относительно общей характеристики шиланского говора эрзя-мордовского языка в полной мере можно распространить на его географическую терминологию, в которой все указанные
PHILOLOGY особенности находят отражение. Рассмотрим последовательно элементы географического лексикона шиланского говора.
Веле
Термин служит для обозначения села, деревни. Иногда, как правило, в случаях, когда требуется уточнение, о каком именно географическом объекте идет речь, термин присоединяется к ойкониму – Шилан веле . При этом в ряде устойчивых словосочетаний, а также в разговорной речи в шиланском говоре термин веле часто заменяет адаптированное заимствование из русского языка – села . Например: села тарка ‘место бывшего села’, ‘урочище’, где села ‘село’ + тарка ‘место’.
Вирь
Данный термин в шиланском говоре эрзя-мордовского языка имеет значение ‘лес’. Термин встречается во всех без исключения мордовских говорах Самарского Поволжья, однако редко является то-погенетичным в них. В топонимии его заменяют заимствования из русского языка – лес и колка . В топонимической номенклатуре окрестностей Шилана используется лексема лес .
Грезь прудась
Данным термином обозначаются болота. Надо отметить, что настоящих болот в окрестностях Шилана нет, поэтому собственно мордовские географические лексемы с данным значением здесь отсутствуют, как и в большинстве мордовских говоров региона. Адаптированное заимствование из русского языка грезь употребляется в значении ‘болото’ также в новоеремкинском и ряде похвистневских эрзя-мордовских говоров Самарского Поволжья. Термин прудась заимствован из русского языка, а финаль сь в нем является общемордовским аффиксом определенности.
Калмо ланго
Устойчивое словосочетание служит для обозначения кладбищ. Для эрзянских говоров Самарского Заволжья нами отмечены два наиболее распространенных термина с этим значением: калмо ланго и калмозырь – оба варианта являются литературно-письменными в эрзянском языке. В шиланском говоре вообще очень ча-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ сто встречается элемент ланго в составе устойчивых словосочетаний, в том числе в географической лексике, например: ки ланго ‘дорога’, сэдь ланго ‘мост’.
Калужина
Данным термином обозначаются лужи, при этом сам термин лужа в говоре также присутствует. Термин калужина традиционно связывается с термином калуга , происхождение которого неясно. Есть некоторые основания видеть в данной лексеме, фиксируемой в русских говорах на обширной территории от Вологодской области до Восточной Сибири, заимствование из финно-угорских языков, в частности из вепсского [12], что, впрочем, подвергается аргументированной критике [8]. С другой стороны, имеются примеры бытования подобных терминов в сходных значениях в других славянских языках, для которых заимствование из финно-угорских языков маловероят-но9. Наконец, в части мордовских говоров бытует географический термин каль , ряд значений которого близок тем, что встречаются в русских говорах у термина калуга . В шиланском говоре, насколько можно судить по его лексическому составу, термин является заимствованием из русского языка, так как лексема каль здесь имеет только одно значение – ‘ива’.
Ки ланго
Термин используется для обозначения дорог. Данный термин является примером частотности элемента ланго в составе географических лексем рассматриваемого говора. В эрзя-мордовских говорах Самарского Поволжья для обозначения дорог нами повсеместно фиксируется вариант ки . Отметим, что устойчивое словосочетание, аналогичное шиланскому, встречается в указанном значении в ряде эрзянских говоров, распространенных на территории Республики Мордовия.
Колка
Это один из самых распространенных транснациональных географических терминов в Самарском Заволжье – в различных фонетических вариациях он встречается у мордвы, чувашей и татар. Термин заимствован из русского языка, где колок – ‘участок леса в безлесной местности’. В шиланском говоре он бытует в значениях ‘роща’, ‘небольшой лес’, при этом топогенетичным в отличие от подавляющего большинства других эрзя-мордовских говоров региона не является. Интересно, что для обозначения рощ и перелесков в шиланском говоре отсутствует термин помра. Между тем, согласно описанию Д. Пушечникова и А. Костяева, этот термин бытовал у мордвы Сайнина в первой четверти XVII в., о чем свидетельствуют топонимы Утешева помра, Ки помра10.
Куринка
Термин служит для обозначения улиц. Особенность в его бытовании здесь заключается в том, что он не является топогенетичным, как в большинстве мордовских говоров региона.
Куро
Данный термин имеет значения ‘ягодная поляна’, ‘грибная поляна’. Тождественное значение для данного термина отмечено Х. Паасоненом для баганского говора эрзя-мордовского языка11. В ряде мордовских сел региона встречается термин кунчка куро , имеющий значение ‘центр села’, при этом сам термин куро в них деэтимологизирован и как самостоятельная лексическая единица не используется (например, в клявлинском говоре эрзя-мордовского языка). В шиланском говоре центр села (и вообще центр) обозначается лексемой кунчкс , сформированной с помощью аффикса превратительного падежа - кс .
Латко
Термин может использоваться для обозначения оврагов, однако сами информанты отмечают некоторую неточность подобного перевода. По их мнению, в настоящее время термин латко точнее было бы перевести на русский язык как ‘яма’, ‘котловина’, ‘углубление на ровной местности’. Собственно же овраги здесь обозначаются русским термином овраг. Сравним в составе топонимов: Сухой овраг, Каменный овраг, Березовый овраг (теперь на его месте Березовый пруд), Неяловский овраг.
Лей
Один из наиболее топогенетичных терминов фиксируется в значении ‘река’, но в топонимии применяется и к незначительным ручьям. Также отмечается факт добавления термина лей в качестве топоформанта к русским гидронимам, например: Хорошенька-лей (русский вариант потамонима – река Хорошенькая ). Данный факт выделяет шиланский говор из мордовских говоров Самарского Поволжья, поскольку в большинстве из них термин лей отсутствует в каком бы то ни было значении, в ряде эрзянских говоров – является синонимом более распространенных и топогенетичных терминов. Отметим, что термин лей отсутствует прежде всего в географических лексиконах мордовского населения сел, основанных до начала XVIII в., говоры которых характеризуются общей архаичностью лексического состава (за исключением клявлинского говора эрзя-мордовского языка, где термин лей фиксируется, топогенетичен, но выступает синонимом более распространенного в значении ‘река’ термина пандалкс ). Также обращает на себя внимание тот факт, что в мордовских говорах немногочисленных для Самарского Поволжья сел, основанных, как и Шилан, в XIX в., термин ляй/ле й присутствует и является топогенетич-ным. Это относится, например, к мокша-мордовскому говору с. Благодаровка Борского района Самарской области [2].
Лисьма
Термин служит для обозначения родников и колодцев. Известное устойчивое словосочетание эрзянской географической лексики лисьма пря в значении ‘родник’ в шиланском говоре не встречается. Термин лисьма является здесь одним из наиболее топогенетичных, что обусловлено характером окружающей местности, богатой родниками. Названия родников в окрестностях
PHILOLOGY села часто связаны с названиями близлежащих полей, причем названия родников, судя по семантике, первичны.
Озеро
Этим заимствованным из русского языка термином обозначаются озера. В шиланском говоре полностью отсутствует термин эрьке, что составляет редчайшую для мордовских говоров Самарского Поволжья ситуацию. Согласно данным наших полевых исследований, во многих мордовских говорах региона термин эрьке в значении ‘озеро’ в настоящее время также не используется – в основном ввиду вытеснения заимствованием из русского языка. При этом, однако, лексема эрьке в исследованных говорах сохраняется, изменяя семантику. Так, в шелехметском говоре мокша-мордовского языка эрьхке – определенный тип озер [1], в эрзянских говорах похвистневской мордвы лексема эрьке (вариация – эрькине , также встречается в составе устойчивого словосочетания чуди эрьке ) имеет значение ‘ручей’ или ‘небольшая река’, в боль-шекаменском говоре эрзя-мордовского языка – ‘река’12. Объяснение данного обстоятельства лишь тем фактом, что в окрестностях Шилана нет значительных озер, не будет исчерпывающим, поскольку, например, в окрестностях эрзянских сел Похвистневского района значительных озер также не имеется, а термин эрьке в лексиконе местных говоров фиксируется. По-видимому, здесь сказывается также фактор наличия и топогенетичности в шиланском говоре географического термина лей в значении ‘река’, который в большинстве мордовских говоров региона отсутствует.
Пакся
Лексема бытует в значении ‘поле’. Подобные лексемы с указанным значением зафиксированы нами во всех без исключения мордовских говорах Самарского Поволжья, с фонетическими вариациями пакся/паксе, причем во всех эрзя-мордовских – пакся. В шиланском говоре данный термин топогенетичен, хотя в топонимической
№ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ номенклатуре активно вытесняется русским заимствованием поле . Указанная ситуация позволяет предполагать, что топогенетичность термина пакся в шиланском говоре в недавнем прошлом была выше. Также надо отметить, что в большинстве мордовских говоров Самарского Поволжья данный термин, при наличии в географическом лексиконе, топогенетичным не является.
Пандо
Термин служит для обозначения холмов, небольших возвышенностей. Вероятно, он является родственным термину панде , бытующему в некоторых мокша-мордовских говорах Самарской Луки в значении ‘небольшое всхолмление’, ‘грядка’13. Возвышенности, которых в окрестностях Шилана немало, в том числе господствующая над окружающей местностью Шиланская Шишка , считающаяся местными жителями самой высокой точкой в Заволжье (что, впрочем, ошибочно и может рассматриваться как часть местного фольклора), называются здесь по-русски – гора . Ряд возвышенностей в окрестностях Шилана в настоящее время имеют два названия, бытующих параллельно, – русское и эрзянское, причем термин гора присутствует в обоих вариантах. Сравним русский и эрзянский варианты названия одной и той же возвышенности: Поклонная гора и Казна гора .
Пе
Данным термином обозначаются ‘конец села’, ‘улица’, ‘конец улицы’, ‘часть села’. Рассматриваемый термин употребляется в основном по отношению к тем частям села, для которых в прошлом была характерна архаичная гнездовая застройка, являвшаяся основным типом застройки в мордовских селениях до начала ХХ в. Для улиц, изначально формировавшихся как улицы в классическом понимании, в шиланском говоре используется термин куринка , в настоящее время вытесненный из топонимической номенклатуры русским заимствованием. Есть основания полагать, что термин пе (с раз-
13 ПМА: Самарская область, Волжский район, с. Торновое, запись 2018 г.
364 Финно–угорский мир. Том 12, № 4. 2020
личными фонетическими вариациями и аффиксацией) ранее имел в мордовских языках более широкий спектр значений. На это, в частности, указывает ряд мордовских гидронимов с неясной этимологией, а также материалы географической лексики других финно-угорских языков.
Песа
Термин бытует в значении ‘окраина села’, ‘околица’. В данном значении распространен в подавляющем большинстве эрзянских говоров Самарского Поволжья. Термин является двусоставным: пе ‘конец’, ‘район села’ + - са – аффикс местного падежа в мордовских языках.
Прудась
Данным адаптированным заимствованием из русского языка обозначаются пруды. При этом в разговорной речи, как и в топонимической номенклатуре, чаще используется русский вариант термина – пруд , сравним: Березовый пруд , Гусиный пруд .
Села тарка
У стойчивое словосочетание служит для обозначения урочищ, мест, где когда-то располагалось поселение – село, хутор, деревня. Первая часть (с ударением на первый слог) является адаптированным в эрзя-мордовской этноязыковой среде заимствованием из русского языка, эрзя-мордовская лексема тарка имеет значение ‘место’: села тарка ‘место села’.
Чудикерькс
Данным термином обозначаются ручьи, что соответствует семантике литературно-письменного эрзя-мордовского термина. В большинстве эрзя-мордовских говоров Самарского Поволжья термин имеет именно такую форму и, как и в шилан-ском говоре, топогенетичным не является. В окрестностях Шилана водотоки любых размеров обозначаются термином лей , что и отражается в топонимической номенклатуре.
Заключение
Обзор географической терминологии шиланского говора эрзя-мордовского языка позволил выявить в нем ряд общих изоглосс с эрзя-мордовскими и мокша-мордовскими говорами Самарского По- волжья, прилегающих районов других регионов и Республики Мордовия. Вместе с тем значительное количество географических терминов, встречающихся в данном говоре, являются специфическими для мордовских говоров Самарского Поволжья – лексически, семантически и по форме бытования. Обращает на себя внимание существенное количество русизмов в рассматриваемом лексическом кластере шиланского говора; процесс замещения эрзянской географической лексики заимствованиями из русского языка в настоящее время продолжается – как в разговорной речи, так и в топонимической номенклатуре. Отметим также, что значительная доля географического лексикона говора находит лексические и семантические соответствия в литературно-письменном эрзя-мордовском языке.
В географической лексике шиланского говора нами не зафиксировано заимствований из тюркских языков, притом что значительная часть топонимической номенклатуры окрестностей Шилана восходит к тюркским языкам. Подобное наблюдение находит соответствия в других мордовских говорах Самарского Поволжья. Так, в клявлинском говоре эрзя-мордовского языка, несмотря на чересполосное проживание эрзян в Клявлинском районе с носителями татарского и чувашского языков, а также на фиксируемое в ряде случаев эрзянско-татарское или эрзянско-чувашское двуязычие, заимствованных из тюркских языков географических терминов нами также не выявлено14.
Географическая лексика шиланского говора, как позволило установить проведенное исследование, обладает специфи- ческими для мордовских говоров Самарского Поволжья характеристиками:
– присутствие послелога ланго в составе устойчивых словосочетаний географической терминологии, таких как ки ланго , сэдь ланго , калмо ланго и т. д.;
– высокая топогенетичность лексемы лей в значении ‘река’. В топонимии она же фигурирует в составе названий ручьев, несмотря на присутствие в географическом лексиконе шиланского говора специального термина со значением ‘ручей’ – чу-дикерькс ;
– отсутствие в составе географической лексики термина эрьке ;
– использование термина лисьма в значении ‘колодец’ и ‘родник’. При этом устойчивое словосочетание лисьма пря в географическом лексиконе отсутствует;
– значительная русификация географической лексики, что проявляется прежде всего в замене русизмами основных мордовских маркеров географической лексики мордовских говоров региона – пандо и латко . Последние не вытеснены из лексикона совсем, но претерпели семантические изменения.
Своеобразие географической лексики шиланского говора можно объяснить как особенностями природно-географических условий окрестностей Шилана, так и исходным составом данного лексического кластера у эрзянских переселенцев, основавших село, – выходцев из разных населенных пунктов. Как показывают результаты наших полевых исследований, именно эти два фактора являются ведущими в эволюции географических лексиконов мордовских говоров Самарского Поволжья.
-
14 ПМА: Самарская область, Клявлинский район, запись 2019 г.
Список литературы Географическая лексика шиланского говора эрзя-мордовского языка
- Беленов Н. В. Географические термины для обозначения озер в мокша-мордовских говорах Самарской Луки // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 2. С. 122-129. DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.02.122-129
- Беленов Н. В. Топонимическое пространство мокша-мордовского села Благода-ровка Борского района Самарской области // Этническая культура. 2020. № 1 (2). С. 14-20.
- Гераклитов А. А. Алатырская мордва по переписям 1624-1721 г. Саранск: Мордгиз, 1936. 87 с.
- Девяткина Е. М. Некоторые фонетические особенности шиланского говора эрзя-мордовского языка // Проблемы языка: сб. науч. ст. Москва, 2012. С. 40-52.
- Девяткина Е.М. Особенности консонантизма шиланского говора эрзянского языка // Вестник Адыгейского государственного университета. 2018. Вып. 4 (227). С. 34-39.
- Керт Г. М. Саамская топонимная лексика: моногр. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. 179 с.
- Мосин М. В. Отражение общефинноугор-ской лексики в мордовских географических названиях // Ономастика Поволжья. Саранск, 1976. Вып. 4. С. 172-174.
- Мызников С. А. Вепсские этимологии в финно-угорском и славянском контекстах // Ежегодник финно-угорских исследований. 2015. Т. 9, № 1. С. 9-13.
- Поляков О. Е. Наши предки и их языки. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 1991. 66 с.
- Ракин А. Н. Проблемы изучения региональной ономастики (на материале гидро-нимической лексики Верхневычегодского региона) // Интеграция образования. 2012. № 3. С. 122-127.
- Цыганкин Д. В. Ойконимия мордовского Заволжья // Ежегодник финно-угорских исследований. 2010. № 3. С. 9-15.
- Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnworter im Russischen. Helsingfors, 1915. 187 S.
- Witsen N. Noord en oost Tartarie. Amsterdam, 1692. D. 2. 600 s.