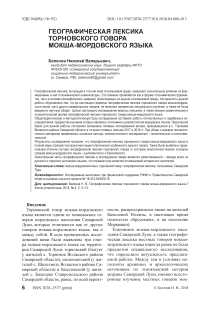Географическая лексика торновского говора мокша-мордовского языка
Автор: Беленов Николай Валерьевич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Географическая лексика, бытующая в той или иной этноязыковой среде, оказывает значительное влияние на формирование в ней топонимической номенклатуры. Это влияние проявляется как в форме топонимических формантов, так и в основах географических названий, происходящих из данной этноязыковой среды. Актуальность данной работы обусловлена тем, что до настоящего времени географическая лексика торновского говора мокша-мордовского языка, как и других самаролукских говоров, не являлась предметом специального изучения, а также не была введена в научный оборот. Целью настоящего исследования явилось описание, а также лексико-семантический и этимологический анализ географической лексики торновского говора мокша-мордовского языка. Общетеоретическую и методологическую базу исследования составили работы отечественных и зарубежных исследователей, предметом изучения которых являлись топонимия и диалектология мордовских языков. Лексической базой для данной работы послужили материалы полевых исследований автора, проводившихся в с. Торновом Волжского района Самарской области в течение полевых сезонов 2017 и 2018 гг. При сборе и анализе лингвистического материала применялись основные методы лингвистического исследования - описательный и сопоставительный. Результаты исследования показали, что географическая лексика торновского говора мокша-мордовского языка в полной мере отражает все фонетико-акцентологические особенности данного говора. Также было выявлено кардинальное отличие состава географической лексики торновского говора от составов аналогичной лексики соседних говоров мокша-мордовского языка - шелехметского и бахиловского. Значительная часть географической лексики в исследуемом говоре является заимствованной - прежде всего из русского и тюркских кыпчакских языков, что отражает ряд аспектов этноязыковой истории его носителей.
Мокша-мордовский язык, торновский говор, географическая лексика, топонимика, самарская лука
Короткий адрес: https://sciup.org/147217893
IDR: 147217893 | УДК: 94(09)(=16=92) | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.04.006-013
Текст научной статьи Географическая лексика торновского говора мокша-мордовского языка
Торновский говор мокша-мордовского языка является одним из мокшанских говоров мордовского населения Самарской Луки, которые отличаются как от других говоров мокша-мордовского языка, так и между собой. В ходе проведенных исследований нами были выявлены три говора мокша-мордовского языка на территории Самарской Луки: торновский (бытует у жителей с. Торновое Волжского района Самарской области), шелехметский (у жителей с. Шелехметь Волжского района Самарской области) и бахиловский (у жителей с. Бахилово Ставропольского района Самарской области, ранее, по всей вероят- ности, распространялся также на жителей Бахиловой Поляны, в настоящее время полностью обрусевших, и на поселение Моркваши).
Топонимия мокша-мордовского населения Самарской Луки, а также географическая лексика местных говоров мокша-мордовского языка никогда ранее не была предметом специального исследования, что определило актуальность предлагаемой работы. Между тем в условиях неполноты архивных и археологических источников по этноязыковой истории мордвы Самарской Луки, именно всестороннее изучение местных говоров мок- ша-мордовского языка может способствовать решению спорных вопросов происхождения и различных аспектов развития мордовского населения на данной территории. В статье мы рассматриваем географическую лексику торновско-го говора мокша-мордовского языка.
Топонимическое пространство мокшанских сел Самарской Луки исследовалось нами в течение полевых сезонов 2017 и 2018 гг. в рамках реализации проекта РФФИ «Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки» (грант № 18-412630002/18). При этом были собраны и обобщены как собственно топонимический материал, так и образцы лексики различных мокша-мордовских говоров Самарской Луки (в основном по кластерам, наиболее часто получающим отражение в топонимии, – географическая, фаунистическая, флористическая, хозяйственная лексика).
Обзор литературы
При исследовании в рамках заявленной темы можно опираться на две группы источников. Первую из них составляют различные топонимические словари, в которых – в том или ином объеме – освещаются некоторые мокша-мордовские топонимы Самарской Луки. Из этих работ особо следует выделить «Самарскую топонимику», написанную ульяновским ономастом В. Ф. Барашковым и самарскими историками Э. Л. Дубманом и Ю. Н. Смирновым1.
Вторую группу составляет внушительный список работ по мордовской диалектологии как отечественных, так и зарубежных исследователей. Здесь мы ориентировались на работы А. М. Гребневой [4; 5], В. П. Гришуниной [6], С. З. Деваева [7], М. В. Мосина [8 и др.], Т. А. Плаксиной [9], А. П. Феоктистова [11 и др.], Д. В. Цыганкина [12 и др.].
Среди зарубежных исследователей необходимо особо выделить Х. Паасонена, собравшего на рубеже XIX – XX вв. богатейший словарь мокшанской и эрзянской диалектной лексики, в том числе на территории Самарского Поволжья, обобщенной им в фундаментальном труде “Mordwinisches Wörterbuch”2.
Между тем специальных работ, посвященных анализу мокша-мордовской топонимии и географической лексики Самарской Луки в отечественной и зарубежной историографии не имеется, что подтверждает высказывание Д. В. Цыганкина о том, что по мордовским говорам Самарского Поволжья и прилегающих территорий «совершенно отсутствуют публикации»3.
Материалы и методы
Лексический материал для исследования собирался в ходе экспедиций 2017– 2018 гг. с использованием полевого метода сбора данных. Непосредственно в с. Торновом Волжского района Самарской области полевые исследования проводились в августе 2017 г. и в сентябре 2018 г. Особое внимание уделялось сплошной записи географических названий, выяснению значения топонимических формантов и самих названий в той форме, как они бытуют в среде местного мокша-мордовского населения. Кроме того, параллельно проводился сбор географической лексики и лексики, наиболее часто находившей отражение в топонимической номенклатуре (фаунистической, флористической, хозяйственной, сравнительно-сопоставительной и т. д.) торновского говора мокша-мордовского языка. Собранный материал интерпретировался путем этимологического и семантического анализа, при этом привлекались материалы соседних мокша-мордовских говоров Самарской Луки, различных мордовских диалектов, а также других финно-угорских языков, была задействована и общефинноугорская лексика.
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим различные географические термины торновского говора мокша-мордовского языка, кратко охарактеризуем их.
Буа
Обозначение искусственных водоемов, которые рыли жители села для обеспечения домохозяйств водой, ввиду дефицита естественных источников воды в окрестностях Торнового. Термин встречается в составе топонимов Бибин Буа , Васька Буа , где первую часть составляет антропоним – имя или фамилия человека, вырывшего пруд. Термин характерен только для торновского говора мокша-мордовского языка, в шелехметском говоре он неизвестен, а сами жители Шелехмети свидетельствуют, что этот термин торновский. Носители торновского говора также подтверждают, что этот термин распространен только у них, однако его происхождение объяснить не могут.
О. П. Терентьева, исследуя гидронимию Ветлужско-Вятского междуречья, выделяет термин би/бу как в качестве самостоятельного, так и в качестве топо-форманта. Указывая, что в самодийских языках слово бу означает ‘вода’, а также в географических названиях может выступать в значении ‘река’, Терентьева полагает, что на территории исследуемого региона данный формант является одним из древнейших. Он иногда встречается в гидрониме одновременно с достоверно мордовскими гидроформантами ляй/ лей , а распространен – с различными вариациями – по всей территории, населенной носителями финно-угорских языков, везде составляя архаичный субстрат. Ф. И. Гордеев, И. С. Галкин, а вслед за ними и О. П. Терентьева считают, что во всех установленных случаях бытование термина бу/би/буй от Карелии до Урала связано с финно-угорским vuja со значением ‘река; ручей’ [10, 33 ].
В контексте этнической истории мордвы Самарской Луки перспективно, на наш взгляд, рассмотреть связь данного термина с распространенным в кыпчак- ских языках названием плотины – буйэ. Вероятность данной гипотезы подкрепляется наличием в самих кыпчакских языках названий прудов, восходящих к данному термину. Например, указываемый Р. З. Шакуровым микротопоним у дёмских башкир Быуа аралы, где быуа – ‘пруд’, аралы – ‘урочище, место’ [13, 97]; пруд Буа в с. Тайсуганове Альметьевского района Республики Татарстан, основанного башкирами и тептярями. В современных тюркских языках бытует и термин, близкий торновскому буа, который Р. Г. Ахметьянов возводит к общетюркскому буг-аг4. В мордовских языках в сложных топонимах апеллятив всегда ставится на второе место, причем неважно – будь то собственно мордовские названия или заимствования из других языков.
Связь с тюркскими лексемами вероятна, однако только если рассматривать уже «готовое заимствование», поскольку плотины как таковой эти объекты не имеют, а являются вырытыми прудами. По мнению Мосина, термин бие/буе , встречаясь ныне лишь в топонимии, является отражением родоплеменных отношений у мордвы, исследователь приводит примеры топонимов с данным формантом: Кеченьбие , Тарасбуе [8, 175 ]. Учитывая, что в Торно-вом такие объекты принадлежали отдельным семьям, подобная этимология вполне вероятна.
Кужо
Лексема кужа/кужо в литературных мордовских языках имеет значение ‘поляна’. Цыганкиным она рассматривается как составляющая мордовской архаичной географической лексики [12, 56 ]. В тор-новском говоре мокша-мордовского языка приобрело иное значение – «необрабатываемая окраина возделываемой земли», «то, что за огородами». Подобное же значение лексема кужо имеет и в шелехмет-ском говоре: так неофициально называется улица Горная, занимающая окраинное положение.
Рипча
Значение данного термина в торнов-ском говоре мокша-мордовского языка в настоящее время утрачено. Встречается в составе ряда топонимов в окрестностях Торнового: Борка-рипча , Номка-рипча . Возможно, данный термин как-то связан с географическим термином репище , достаточно распространенным на Самарской Луке и означающим лесные поляны. Сами жители Торнового предполагают, что слово рипча может являться измененным заимствованием из русского языка – роща . Впрочем, объекты, названия которых содержат данный термин, достаточно разнотипны: это могут быть как группы деревьев, так и лужайки, поля и т. д. Происхождение данного термина нуждается в дополнительном исследовании.
Баряк
Данным термином в торновском говоре мокша-мордовского языка обозначаются как овраги, так и ручьи. Термин буерак , считающийся тюркским заимствованием в ряде восточнославянских языков5, получил распространение на Самарской Луке достаточно рано (в первых подробных картографических источниках для данной территории – на карте Адама Олеа-рия 1636 г. и на Чертеже Печёрской слободы 1684 г. он уже фигурирует), бытуя в русской и мордовской этноязыковых средах. При этом для мокшанских говоров Самарской Луки остается открытым вопрос о проникновении в них данного термина. Он мог быть заимствован местной мордвой как у русского населения, пребывание которого документально фиксируется здесь с первой трети XVI в., так и прямо из тюрко-монгольской среды. Значение ‘овраг’, безусловно, первично, значение ‘ручей’ – вторично, причем фиксируется только для торновского говора. По нашему мнению, оно явилось следствием природно-географических особенностей окрестностей села: все местные ручьи являются сезонными и наполняются водой только в период таяния снегов в горах, в
PHILOLOGY остальное время представляя собой сухие каменистые русла оврагов.
Лифтима
Термин, обозначающий в торновском говоре мокша-мордовского языка колодец. В литературном мокшанском языке колодец называется эши . Здесь надо отметить, что в говорах мокшан Самарской Луки обозначения колодца вообще отличаются большим разнообразием. В торновском говоре, по всей видимости, данный термин происходит от глагола лифтемс со значением ‘вытаскивать; вытягивать’, путем добавления аффикса -ма , в результате получилось существительное, которое и служит для обозначения колодца.
Чанэ
В настоящее время в торновском говоре мокша-мордовского языка значение данной лексемы утрачено, встречается лишь в составе топонимов, например: Старип-чанэ – название колодца. По аналогии с топонимами в окрестностях других мордовских сел Самарского Поволжья можно предложить реконструкцию данного топонима как ‘старушечий колодец’ (сравните, например, с названием колодца Бабань лисьма в окрестностях эрзянского села Коноваловка Борского района Самарской области), где лексема чанэ может представлять собой заимствование из кыпчакских языков: чаны со значением ‘колода; большая деревянная кадка’. Колодец Ста-рип-чанэ, действительно, был благоустроен в форме деревянного сруба.
Панда
Лексема, обозначающая в торновском говоре мокша-мордовского языка гору. Данный термин аналогичен мокшанскому литературному. Встречается в составе ряда топонимов в окрестностях Торново-го, например: Эрьхке-Панда .
Панде
Данным термином в торновском говоре мокша-мордовского языка обозначаются холмы и небольшие возвышенности. Вероятно, здесь имеет место эллипсис от лексемы пандане – уменьшительного от панда .
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Эрьхке
Виле
Этот термин, означающий в литературном мокшанском языке озеро, известен в таком значении и в торновском говоре мокша-мордовского языка. Здесь, однако, он относится только к естественным озерам (в то время как в различных мокшанских диалектах применяется и к прудам: в частности, в списке мордовских слов у Н. Вит-сена для термина эрьхке приведено именно значение ‘пруд’6). Дальнейшее сужение семантики данного термина можно проследить в шелехметском говоре мокша-мордовского языка, где так называют естественные озера только определенного типа.
Река
Данный термин, заимствованный из русского языка, рассматривается носителями торновского и шелехметского говоров мокша-мордовского языка как собственный, «мордовский». Термин лей/ляй при этом здесь совершенно неизвестен.
Паксе
Термин, служащий для обозначения полей в торновском говоре мокша-мордовского языка, применяется как к участкам обработанной земли, так и к участкам, поросшим луговой растительностью. Встречается в составе ряда топонимов, например Шре-паксе – ‘Стол-поле’, так в Торновом называется урочище Чуракайка. От литературного мокшанского термина с данным значением – пакся – отличается тем, что, в соответствии с особенностями торновско-го говора мокша-мордовского языка, [я] перешел в [е/э], а ударение переместилось на последний слог.
Лексема, обозначающая в торновском говоре мокша-мордовского языка село. Литературная мокшанская форма веле в торновском говоре изменилась в соответствии с его особенностями: фонема [е] перешла в [и].
Заключение
Заканчивая обзор географической лексики торновского говора мокша-мордовского языка, необходимо отметить следующие ключевые моменты.
Все характерные черты, присущие данному говору (переход ударения в слове преимущественно на последний слог, добавление финального гласного [е/э], а также переход [е/э] в [и], [я] в [е/э]), находят отражение в его географической лексике.
Лексический состав географической терминологии торновского говора мокша-мордовского языка значительно отличается от географической терминологии и литературной мокшанской, и соседних говоров мокша-мордовского языка – ше-лехметского и бахиловского.
В географической лексике торнов-ского говора мокша-мордовского языка нашли отражение различные аспекты этноязыковой истории данной группы мордвы Самарской Луки: здесь наблюдается значительное влияние русского и тюркских (кыпчакских) языков, сохранение ряда общемордовских архаичных черт, а также выделяются элементы собственной эволюции данного говора в условиях длительной изоляции от носителей иных мокшанских диалектов.
-
6 См.: Витсен Н. Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии. Амстердам, 2010. Т. 2. C. 403.
Список литературы Географическая лексика торновского говора мокша-мордовского языка
- Беленов Н. В. К вопросу о некоторых заимствованиях в мордовских языках // Сопоставительно-типологический ракурс в исследовании разноструктурных языков: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Башкир. гос. ун-т. Уфа, 2018. С. 40-45.
- Беленов Н. В. Ойконим Шелехметь на Самарской Луке в этноисторическом контексте // Современные исследования социальных проблем. Красноярск, 2018. № 2. С. 12-17.
- Богдашкина С. В. Лексика старошайговских говоров мокшанского языка / МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Саранск, 2014. 110 с.
- Гребнева А. М. Названия плодовых деревьев и кустарников в мордовских языках и говорах // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. № 2. С. 7-17.
- Гребнева А. М. Целостный подход к исследованию словосложения номинантов мордовских языков // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 2. С. 7-16.
- Гришунина В. П. Диалектная лексика мокшанского языка (лексикографический и лингвогеографический аспекты исследования). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. 172 с.
- Деваев С. З. Средневадский диалект мокша-мордовского языка: автореф. дис. …канд. филол. наук. Саранск, 1965. 22 с.
- Мосин М. В. Отражение общефинноугорской лексики в мордовских географических названиях // Ономастика Поволжья: сб. ст. Саранск, 1976. С. 172-175.
- Плаксина Т. А. Ареальное исследование северо-западных говоров мокша-мордовского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 2002. 17 с.
- Терентьева О. П. Гидронимы Ветлужско-Вятского междуречья (потамонимы): автореф. дис. … канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 1994. 23 с.
- Феоктистов А. П. Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2008. 392 с.
- Цыганкин Д. В. Мордовская архаическая лексика в топонимии Мордовской АССР // Ономастика Поволжья: сб. ст. Саранск, 1976. С. 54-59.
- Шакуров Р. З. Историко-стратиграфическое и ареальное исследование башкирской топонимии Южного Урала и Предуралья: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Уфа, 1998. 38 с.
- Itkonen E. Zum Ursprung und Wesen der reduzierten Vokale im Mordwinischen // Finniesch-ugrischt Forchungen, 1971. Bd. 39. P. 41-75.