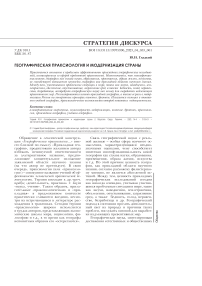Географическая праксиология и модернизация страны
Автор: Гладкий Ю.Н.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Стратегия дискурса
Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.
Бесплатный доступ
Привлекается внимание к проблемам эффективности прикладных географических исследований, ассоциируемых со сферой предметной праксиологии. Напоминается, что многофункциональность географии как сплава науки, образования, просвещения, образа жизни, искусства, не способствует повышению ценности географии как прикладной области научного знания. Между тем, участившиеся проблемные ситуации в мире, такие как засухи, наводнения, землетрясения, обезлесение, опустынивание, загрязнение сред, а также бедность, голод, неравенство, безработица, востребуют географическую науку как основу для выработки надлежащих превентивных мер. Рассматриваются истоки прикладной географии, а также ее роль в модернизации России на конкретных примерах освоения Арктики. Излагается позиция в отношении учебной географии, праксиологические возможности которой остаются недооцененными.
Альтернативная энергетика, многомерность модернизации, освоение арктики, праксиология, прикладная география, учебная география
Короткий адрес: https://sciup.org/140305712
IDR: 140305712 | УДК: 910.1 | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_053_061
Текст научной статьи Географическая праксиология и модернизация страны
Обращение к лексической конструкции « Географическая праксиология… » вместо близкой по смыслу «Прикладная география», продиктовано желанием автора избежать неминуемой ответственности за альтернативное название, предполагающее концептуальное изложение заявляемой области научного знания (на что автор не претендует). В свою очередь, праксиология (или «праксеоло-гия») – совокупное название учений об эффективности человеческой практической деятельности . Термин восходит к др.-греч. πράξις «деятельность, практика» + λογία «наука, учение». Таким образом, прилагательные «праксиологическая» и «прикладная» в предложенном контексте практически сливаются воедино, несмотря на встречающиеся в литературе расхождения в трактовках. Сегодня термин «праксиология» широко используется в трудах авторов, представляющих экономические школы мира, социологию, философию и т.д., в то время как географы непонятным образом его «остерегаются».
Связь географической науки с реальной жизнью – особая сфера научного осмысления, характеризующаяся неоднозначными оценками, чему способствует известная многофункциональность самой географии как сплава науки, образования, просвещения, образа жизни, искусства и т.д. По этой причине ценность географии, как прикладной области научного знания, согласно расхожему филистерскому мнению, не является абсолютной истиной. Между тем, ценность прикладных географических исследований сегодня как никогда очевидна, учитывая участившиеся проблемные ситуации в мире, такие как засухи, наводнения, землетрясения, обезлесение, опустынивание, загрязнение сред, а также бедность, голод, неравенство, безработица и др. Географический подход в состоянии пролить дополнительный свет на природу и причины таких проблем, послужить основой для выработки надлежащих превентивных мер.
Географическая наука, синтезирующая достижения естественных и общественных
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
дисциплин и исследующая все ключевые объекты земного пространства (литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу и социосферу), вносит свой посильный вклад также в объяснение причин и последствий опасного нарушения круговорота веществ и энергии в природе и сбоя регенерационных механизмов биосферы с участием Человека. Имеющая одновременно естественный и общественный облик, она обладает уникальным свойством « перекрестного геос-ферного опыления », то есть недооцененным синергетическим потенциалом, в то время как более «маститые» отрасли научного знания (физика, химия, биология) условно ограничены рамками своих естественных предметных полей.
Истоки прикладной географии
Первое упоминание о прикладной географии восходит к книге британского географа Дж. Келти «Прикладная география: предварительный набросок», опубликованной в 1890 г. [20]. Он полагал, что сущность этой области, синтезировавшей географические знания и способствовавшей их практическому применению, связывалась, прежде всего, с интересами промышленности, торговли и колонизации.
В англосаксонской литературе (где, по обыкновению, отстаивается свой приоритет едва ли не в каждой отрасли науки) родоначальником прикладной географии считается британец Р. Милл (современник Х. Маккиндера), который первым (в 1896 г.) составил план использования картографических данных в качестве основы для построения категорий качества земель и землепользования для всех Британских островов.
Эту работу (кстати, проигнорированную британскими географами), действительно, можно рассматривать в качестве оригинальной попытки применить географические знания к землепользованию островов. Лишь в ХХ в. идея картографирования земельных угодий была реализована известным географом Д. Стэмпом, который воплотил ее в работоспособную концепцию для регионального обследования потенциального качества земель и землепользования [21]. Он организовал первое британское исследование землепользования в 1930-х годах и привлек десятки тысяч школьников (!) к составлению карты землепользования в масштабе 1/2500.
Ирония по поводу отстаивания британцами своего приоритета объясняется привычным принижением ими научного опыта других стран. Например, известная модель сельскохозяйственного штандорта немца И. Тюнена была предложена еще в 1826 г. Используя зависимость от места сбыта продукции, Тюнен реализовал модель в собственном поместье задолго до использования британцами картографических данных в качестве основы для построения категорий качества земель. Но ведь при этом можно вспомнить и Страбона (родившегося еще до нашей эры), который писал свою «Географию» для нужд римских чиновников; Варениуса, исследовавшего Сиам и Японию в интересах амстердамского купечества; Мори, создавшего карты ветров и течений для корректировки маршрутов парусных судов и т.д. Все они вовсе не подозревали, что впоследствии родоначальником прикладной географии будет объявлен Милл.
Своеобразным проявлением прикладной политической географии (и, естественно, геополитики) можно считать использование в период между мировыми войнами в ХХ в. геополитической концепции « жизненного пространства » Германией, приведшее к появлению немецкого термина Geopolitik (благодаря К. Хаусхоферу). На Парижской мирной конференции в 1919 г. географические концепции и принципы были применены при «перекройке» политической карты Европы после первой мировой войны. Абстрагируясь от оценки характера происшедшего тогда изменения границ, заметим: оба факта продемонстрировали жизнеспособность прикладной политической географии.
Есть основания утверждать, что полезность географии для практических целей в Европе (притом не только из военных, но и коммерческих соображений) ранее всего была осознана в Пруссии, Франции и России. Что касается нашей страны, достаточно в этой связи упомянуть имена А.И. Воейкова - создателя сельскохозяйственной метеорологии и Ю.М. Шокальского – основателя морской метеорологии.
Имеется многочисленная литература о прикладных разработках с участием географов в СССР. Вслед за созданием еще в 1915 г. под руководством академика В.И. Вернадского Комиссии по изучению естественных производительных сил при советской власти (1930 г.) был учрежден авторитетный Совет по изучению производительных сил (СОПС), являвшийся звеном в системе Академии наук, затем Госплана СССР. Этот государственный орган в начале XXI в. был инкорпорирован в систему Минэкономразвития и торговли и одновременно РАН.
Можно привести реальные результаты его прикладной деятельности (которые можно считать настоящим торжеством не только экономической, но и географической мысли), включая Генеральную схему развития и размещения производительных сил СССР – предплановый и прогнозный (на 10-15 лет вперед); крупномасштабные региональные проекты, давшие «жизнь» Западно-Сибирскому нефтегазовому комплексу, способствовавшие освоению зоны Байкало-Амурской магистрали, развитию Севера. К их числу относятся также проекты формирования территориально-производственных комплексов (прообразов будущих кластеров), ориентированных на использование колоссальных энергетических и природных ресурсов - Саянского, Тимано-Печорского, Южно-Якутского, группы Ангаро-Енисейских и др.).
Еще в 60-х гг. прошлого столетия неформальным лидером отечественных географов акад. И.П. Герасимовым (возглавлявшим Институт географии Академии наук) были сформулированы концептуальные идеи нового научного направления « конструктивная география ». Вначале они были изложены в статье «Конструктивная география: цели, методы, результаты» [2], а затем продублированы в его монографии «Советская конструктивная география» (1971). Побудительные мотивы этого шага ученый связывал с назревшей необходимостью перехода от описательно-объяснительной методологии географической науки к конструктивно-преобразовательной (по существу – праксиологической, прикладной , объединяющей естественноисторические и социально-экономические подходы к исследованию динамики взаимодействия природы и общества). Оценка этого направления носит амбивалентный характер. Этим же закончились и попытки «духовных отцов» советской физической географии преобразовать свою науку в «инженерную».
Сегодня можно подвергать критике разрабатывавшиеся региональные проекты и программы, прежде всего, за их «зашкаливавшую» социоморфность. Но они отражали реалии командно-административной экономики, эпохи социалистических производственных отношений, основывавшихся на познании и сознательном использовании объективных экономических законов, присущих марксистской экономической доктрине. В данном случае важно отметить тот факт, что при всей научной и прикладной ценности разрабатывавшихся проектов и программ, региональные исследо- вания подобного рода были прекращены с распадом СССР и началом рыночных преобразований.
Предпринимавшиеся меры в области региональной политики, в частности, подготовка администрацией Б.Н. Ельцина в 1994 г. проектов таких документов, как «Региональная стратегия России» и «Программа развития депрессивных районов России», на самом деле явились имитацией реальных действий. Идеи этих документов были воплощены в известном Указе Президента (1996 г., № 803) и также остались пустой декларацией. Постепенно пришло осознание, что стратегия рыночной трансформации экономики при устранении регулирующих функций государства глубоко ошибочна. В условиях обширной территории России многие регионы не выдерживали испытания рынком, и отдавать их во власть рыночной стихии – означало проявлять равнодушие к судьбе собственного народа.
Модернизация страны: роль географической науки
Итак, глубокая связь, прямая и косвенная, между прикладной географической наукой и модернизацией страны очевидна, хотя, бесспорно, не для всех. Именно, из-за фатального недоучета факторов географического свойства, страна в своей истории не раз упускала реальные шансы существенно ускорить темпы модернизации.
Многими пытливыми умами России давно была подмечена и убедительно обоснована роль природы, которая всегда накладывала жесткие ограничения на освоение обширной территории, развитие земледелия и животноводства, промышленного и гражданского строительства, прокладку магистральных шоссе и проселочных дорог и т.д. Климатический детерминизм и многолетняя мерзлота (« божий бич ») наиболее северного государства мира через развитие экономики издавна оказывала значимое влияние на всю сферу социальных и политических институтов, духовную жизнь общества, этические традиции и даже характер зодчества, живописи, музыки, танцев [5]. В то же время некоторыми авторами, прежде всего, западными, степень ее влияния до сих пор упрямо подвергается сомнению, в том числе, дескать, из-за имманентной «лени и недотёпности обитателей империи».
Разумеется, посильная роль географии в модернизации страны не сводится к учету специфики ее природных условий. Реальное значение имеет множество других факторов: наличие колоссальных расстояний;
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
формировавшаяся веками, не всегда оправданная нынешняя локализация населения; его этнокультурная специфика; неиспользованные возможности концентрации экономики и оптимизации транспортной сети; недоучет экзистенциальности федеративного устройства страны; соблюдение принципов экистики и т.д.
Но вначале, собственно, о трактующемся по-разному понятии «модернизация», о ее теоретических основаниях. Несмотря на встречающиеся в литературе утверждения о наличии универсальной теории модернизации, в реальности ее не существует вообще. Имеются многочисленные модернизационные концепции, которые действительно активно разрабатывались учеными западных стран, особенно в середине прошлого столетия. Широкий спектр толкований чаще всего сводится к процессу (процессам) усовершенствования чего-либо в соответствии с современными требованиями. Таким образом, в реальной жизни обновить (осовременить) можно не только товары, технологию их производства или экономику страны в целом, но также общественные отношения, армию, систему образования, здравоохранения и т.д.
Иначе говоря, можно утверждать, что трансформационная модель российской экономики отличается многомерностью . Теоретические контуры такой модели в постсоветские десятилетия оставались крайне расплывчатыми. Утверждения о ее монетаристской природе, которые постоянно сопровождали выступления творцов экономической политики, манипулировавших реформами в области денежной и кредитной политики, мало соответствовали действительности. Они далеко не всегда совпадали даже с взглядами М. Фридмена - экономиста США, в 1976 г. получившего Нобелевскую премию именно за исследования в области потребления, монетарной политики и сложностей стабилизационных реформ.
Можно анализировать бесчисленные варианты модернизации России, предлагавшиеся как маститыми экономистами и политологами, так и представителями либеральной интеллигенции, изобретавшими подчас фатальные вердикты неизбежного краха «путинской России». Так, один из наиболее даровитых российских аналитиков, русофобски настроенный автор В. Иноземцев в своем труде «Несовременная страна. Россия в мире XXI века», полагает, что несовременность России носит настолько фундаментальный характер, что нужны исторические потрясения или си- стемные изменения, которые способны сменить тренд, который был задан … со времён татаро-монгольского нашествия. Рецепт ясен и прост как «манная каша». Продвигая тривиальную истину о том, что «продавать газ и нефть, а в обмен получать, начиная от медикаментов и заканчивая высокими технологиями, стратегия опасная» [7], г. Иноземцев лукаво умалчивает о яростной многовековой войне (не только экономической) коллективного Запада против собственной страны, будто эта истина ему вовсе не ведома, как и неизвестен факт о «странном» наличии … немецкого, английского, французского, итальянского и турецкого кладбищ в одном лишь Севастополе.
Памятуя об уникальной полисемии географической науки, объемлющей разнокачественные проблемы природы и общества, логично принять идею именно многомерности (многовариантности) определения термина модернизация с выделением, кроме социально-экономических, также исторических, культурно-цивилизационных и, естественно, географических аспектов модернизации, обычно остающихся вне сферы внимания исследователей. Кстати, в понимании Л.С. Васильева даже Великие географические открытия можно в известной мере ассоциировать с процессом модернизации. Последнюю он уподобляет «универсальному явлению всемирной истории, охватывающему ее от античности до современности» [15, с. 7-12].
Этот экскурс в вопросы интерпретации модернизации дает нам методологические основания исходить из широкого (в т.ч. географического) представления о рассматриваемом феномене как всеобъемлющем, исторически растянутом процессе, включающем в себя совокупность подпроцессов, охватывающих различные сферы жизни общества. Разделяя следующее «комплексное» определение модернизации В.Г. Хороса: «модернизация... охватывает все сферы общественной жизни – экономическую, социальную, правовую, политическую, культурную. Изменения в этих сферах связаны между собой и коррелируют друг друга» [15, с. 12], считаем, что ипостасей общественной жизни еще больше, если учесть географическую , экологическую, идеологическую, демографическую и др.
Текущие прикладные задачи
Каждому ученому-географу, каким бы высоким научным рейтингом он ни обладал, вряд ли хотелось бы рядиться в тогу высокомерного специалиста, ука- зывающего и скрупулезно ранжирующего подобные задачи. Зато можно безошибочно назвать некоторые макропроблемы модернизации страны, которые без участия географов решать сегодня трудно, и иногда невозможно.
Приведем мнения лишь некоторых авторитетных отечественных географов, ответивших на вопрос анкеты Ассоциации российских географов обществоведов (АРГО): « На какие прикладные, практические задачи в будущем должна выходить общественная география? ». Академик П.Я. Бакланов видит главную задачу в «разработке вариантов устойчивого развития территориальных социально-экономических систем разных уровней, устойчивого развития регионов в целом», а также цифровых моделей поселений, городов, районов для целей управления, создание ГИС (информационного обеспечения в целом) для целей регионального развития, управления, мониторинга и т.д. Проф. А.И. Чистобаев (многолетний директор НИИ географии ЛГУ / СПбГУ) важнейшую задачу усматривает в разработке «научных основ пространственного менеджмента для обеспечения конкурентоспособности территорий, повышении качества жизни, решении социальных проблем, организации государственно-частного партнерства при создании объектов инфраструктуры, местного самоуправления с учетом природно-экологических, социально-экономических и этноконфесси-ональных условий регионов». Проф. В.А. Колосов (бывший президент Международного географического союза) акцентирует внимание на необходимости «восстановления в соответствии с нынешними реалиями практики территориального планирования на разных уровнях - от общегосударственного до муниципального и развития государственной экспертизы перспективных планировочных и в целом экономических решений» [16] и т.д.
Конечно, в данном случае речь идет лишь об общественной географии (human geography). В стороне остается огромный онтологический массив естественной географии, представители которой сосредоточены на познании ландшафтной оболочки Земли, установлении закономерностей её структуры, развитии и пространственных различий. Цель такого познания – практическое использование обнаруженных особенностей и законов, овладение ими на благо людей. Естественно, прикладное значение естественно-географических наук сильно дифференцируется, в зависимости от их профиля. Например, большое практическое значение гляциологии, науки о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности Земли (в атмосфере, гидросфере и литосфере), обосновывается тем, что колоссальное количество пресной воды на Земле заключено в ледниках. При растущем в мире дефиците пресной воды без широкого использования ледниковой воды человечеству не обойтись.
Как бы там ни было, представление об объектах и предмете «устоявшейся» прикладной географии сегодня концентрируется, главным образом, вокруг оценки пространственно-временных природных условий освоения территории, использования природных ресурсов, а также формирования территориальных социально-экономических систем разных уровней.
Конкретизируя содержание отдельных острых проблем пространственного развития нашей страны, где праксиологический подход является органическим методом исследований, ограничимся тематикой Российского Севера. Так, очевидна и весьма ответственна роль географической науки в исследовании процессов освоения Северного Морского пути (СМП). Климатические флуктуации последних десятилетий и процессы дегляциации в Арктической зоне вызвали волну повышенного интереса к этому морскому маршруту. Одни авторы ассоциируют его с будущим мирового транспорта, другие считают лишь грандиозным проектированием. Среди его очевидных преимуществ - уменьшение протяженности существующих маршрутов в Европу и, как следствие, снижение транспортных издержек; обеспечение лучшей сохранности скоропортящихся грузов; повышение безопасности судов из-за отсутствия морского пиратства и отказа от содержания охранных флотилий.
Стратегическое планирование и надежный прогноз эффективности перевозок по СМП вряд ли возможны без широкого привлечения представителей географической науки. Трудно согласиться с тем, что исследование, например, вопросов навигационно-гидрографического судоходства в акватории СМП, его гидрометеорологического и аварийно спасательного обеспечения, а также развития морских портов , может быть осуществлено силами одной экономической науки и использованием современных технологий. (Кстати, именно эти вопросы составляют суть национальной стратегии развития Северного морского пути до 2035 г., утвержденной Правительством РФ в 2022 г. Согласной ей, реализация стратегии заметно повысит среднегодовую до-
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
ходность маршрута и к середине 2030-х годов обеспечит прирост налоговых поступлений в местные и федеральный бюджеты примерно в 10 трлн рублей. Считается, что комплексный план развития СМП фиксирует всесезонную навигацию в качестве одной из основных целей [1].
Однако трудностей и прямых рисков столь много, что к слишком оптимистическим прогнозам в данном вопросе следует относиться весьма осторожно. Не случайно факторы риска в литературе анализируются менее глубоко. Они связаны с ледовой обстановкой и мелководностью Арктических морей, неудовлетворительным состоянием навигационного обеспечения портов и их недостаточностью для обеспечения масштабных потоков торгового судоходства, с обострившимися геополитическими коллизиями [13; 14 и др.], препятствиями законодательного характера, а также с возможным негативным влиянием коммерциализации СМП на экологическую среду.
Очень тревожна судьба сырьевых регионов Арктики . Интенсивная разработка минерально-сырьевых ресурсов Арктики породила острую проблему временных пределов устойчивости экономики минерально-сырьевых регионов в связи с постоянными колебаниями мировых цен на добываемое сырье, и особенно, неизбежным исчерпанием природных даров. Географический «фон» проблеме придает и тот факт, что неустойчивость таких регионов во многом обусловлена суровостью местного климата, плачевным состоянием местной производственной и социальной инфраструктуры, несовершенством механизма вахтового метода и т.п., в результате чего эти регионы чаще всего становятся депрессивными с истощенным ресурсным потенциалом, нарушенной экосистемой и загубленным традиционным хозяйством. Но особую остроту данной проблеме в регионах разработки природных ресурсов придает неизбежное истощение углеводородного сырья.
Вопрос о судьбе сырьевых регионов Арктики все чаще выносится на панельные дискуссии экономических форумов, становится «головной болью» властей соответствующих субъектов Федерации и руководителей крупнейших нефтегазовых компаний. К поиску «рецептов» повышения устойчивости экономики подобных регионов Российского Севера и Арктики и исследованию Арктики в целом подключились и географы, в том числе автор, вместе со своими коллегами [ 8–11 и др.].
Конечно, далеко не все сырьевые регионы страны, формирующие около полови ны ее бюджета, 70% экспорта и являющиеся драйверами российской экономики, относятся к Арктической зоне. Но, во-первых, некоторые из них, полностью или частично, расположены в Арктике, либо сильно тяготеют к ней, а, во-вторых, всех их объединяет общая цель, связанная с тем, что стратегическое использование нынешних возможностей сырьевых регионов должно стать залогом их безбедного будущего.
Именно эта идея была в центре первой тематической дискуссии о судьбе сырьевых регионов России после исчерпания их ресурсов, состоявшейся на XII Международном экономическом форуме в Сочи еще в 2013 г. Участники дискуссии тогда пришли к выводу, что ключевым элементом стратегии таких регионов должно быть понимание, что их население не останется обездоленным, что оно заслуживает «жить долго и счастливо» и после исчерпания добываемых природных ресурсов . Естественно, что аналогичной позиции придерживаются и представители местных администраций.
Но, такая «формула» вовсе не проливает света на конкретные рычаги и инструменты, которые могут быть задействованы для повышения устойчивости развития нефтегазодобывающих регионов Российского Севера при неизбежном истощении их сырьевой базы или возможном «обрушении» цен на углеводороды. Обращение же к специфическому опыту Канады, Аляски и других приарктических государств, где места эксплуатации сырья к тому же далеко не всегда связаны с местожительством коренных народов (не попадающих под проекты переселения), часто становится малоплодотворным.
В целом проблема перспектив социально-экономического развития сырьевых регионов Севера многоаспектна. С одной стороны, развитие регионов-доноров в ряде случаев, действительно, отстает от темпов развития регионов, вообще лишенных минеральных ресурсов, что многими экспертами связывается с аккумулированием «северных» денег на уровне федерального бюджета, а затем - распределением между бюджетами всех регионов. Не случайно представители северных нефтегазовых регионов все чаще ратуют за «механизм справедливого распределения налогов», так как «аппетиты» федерального центра, дескать, постоянно растут, а средств на развитие не остается.
С другой стороны, без опоры на собственные силы - диверсификации собственной экономики, развитии переработки нефти и газа на территориях добывающих регионов – трудно надеяться на счастливое будущее населения арктических регионов после истощения их подземной кладовой.
Из российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, пожалуй, наиболее ярко отражает характер затронутой проблемы. По уровню социально-экономического развития он занимает одно из лидирующих положений в РФ, а по доле ВРП в общероссийском значении он стабильно является одним из лидеров (еще недавно в округе добывалось более 90% российского газа, по добыче нефти занимает второе место после ХМАО-Югра - 7%). Вместе с тем в регионе накопилось немало проблем, требующих разрешения. Они связаны, преимущественно, с узкосырьевой структурой экономики, основанной на добыче углеводородного сырья, что имеет негативные последствия, главным образом, в периоды падения мировых цен на сырье и в результате истощения сырьевой базы, что уже сейчас наблюдается на ряде месторождений округа и приводит к проблемам развития ресурсных центров (Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и др.).
Как показывает практика, не только в Ямало-Ненецком автономном округе, но и в других ресурсодобывающих регионах Севера и Арктики, на эту проблему не обращают должного внимания. Во всяком случае, анализ показывает, что об этой проблеме начинают задумываться лишь в кризисные периоды. Однако расширение отраслевой структуры хозяйства нужно решать своевременно, в условиях благоприятной экономической и политической обстановки, на стадии растущей добычи углеводородов, поскольку проблему легче предупредить, нежели в дальнейшем иметь негативные последствия.
Определяющая роль в решении этой проблемы принадлежит государству в лице как федеральных, так и региональных органов власти, способных сформировать такую модель государственной политики на Севере и Арктике, которая позволила бы ресурсодобывающим регионам развиваться устойчиво, без потрясений не только в коротком, но и длительном периоде.
Трудно представить разработку проектов развития ветровой (альтернативной) энергетики без участия климатологов – представителей географической науки, исследующих геофизические условия развития этой отрасли. В специальной литературе нетрудно найти убедительные аргументы (в т.ч. автора) в пользу широкого использования ветровой энергетики в условиях Арктики [4], тем более что, согласно прогнозам климатологов, потепление климата будет сопровождаться усилением частоты и силы ветра.
Обращение к литературным источникам показывает, что в большинстве случаев ее развитие обусловливается экономическими, техническими и регуляторными барьерами, несовершенством нормативно-правовой базы и т.д. Менее глубоко исследуются геофизические детерминанты, ассоциирующиеся с климатообразующими факторами, орографическими особенностями арктических регионов и даже с угловой скоростью вращения Земли, оказывающей решающее воздействие на циркуляцию атмосферы и океана.
Но речь идет не только о геофизических условиях. В рядах экспертного сообщества крепнет убеждение о том, что развитие ветроэнергетики в Арктике должно рассматриваться сегодня не столько в рамках экономических категорий, сколько социальных, экологических и, естественно, географических. Ведь во многих случаях в энергии нуждаются локализованные специфические объекты – пограничные заставы, метеорологические станции, навигационные маяки и т.д. Когда преследуются интересы государственной безопасности, задача достижения конкурентоспособности на мировом рынке отступает на второй план.
Разумеется, можно привести немало других примеров прикладной роли географии, связанных с исследованием природно-ресурсного потенциала страны, оптимизации региональных пропорций, непросчитанно-сти социальных и геополитических последствий идей «поляризованного развития», капитализации урбопространства, реализации спорных проектов расширения столичных агломераций и др. Об одной специфической сфере применения географических знаний говорит следующая мысль известного российского географа: «Самая важная прикладная область общественной географии – географическое образование . Только она может обеспечить гармонический целостный подход в этой области, связанный с ценностями и запросами российского общества» [16, с. 98].
Праксиологические возможности учебной географии
Кажущийся парадоксальным ответ ученого-географа (см. последнюю цитату), в действительности, не так уж далек от к истины, если учесть, что в средней школе учебные предметы история и гео-
Общество
графии, по своей значимости для каждого гражданина, независимо от выбора профессиональной карьеры, идут вслед за умением грамотно изъясняться на родном языке.
Утверждение нового содержания географического образования в старшей школе должно происходить с опорой на фундаментальные и прикладные исследования в современной географической науке, которые позволят решить задачу интеллектуализации всех видов деятельности обучающихся. Получая эти элементарные знания в общеобразовательной школе, будущие специалисты в конкретных областях практической деятельности обогащаются опы- том синтеза разума и интуиции, монизма и плюрализма, рационализма и иррационализма и т.д.
Выступая в качестве института передачи географических знаний, образование давно превратилось в инструмент политики «мягкой силы», являясь, например, неотъемлемой составляющей и формой как национальной, так и внешнеполитической стратегии многих современных государств. Именно географическая наука и географическое образование прямо способствует России углубить азиатскую (прежде всего, евразийскую) интеграцию, преодолеть возникающее порой недоверие со стороны ее соседей, направить позитивный опыт интеграции в экономической области на смежные сферы межгосударственных взаимодействий на постсоветском пространстве».
Поскольку наиболее многочисленным коллективом географов в нашей стране является многотысячный корпус учителей географии, тезис о том, что само географическое образование во многом олицетворяет праксиологический характер этой области знания, является особенно ценным. Известно, что фундаментальное образование схематично можно предста- вить как полезное мировоззрение, плюс полезные прикладные дисциплины. Конечно, в этой «формуле», в действительности, имеется не два, а больше «слоев». Но в любом случае кондиционное школьное географическое образование оказывается незаменимым в контексте самых разных проектов - экономических, социальных, экологических, культурных, политических и т.д.
Географические знания представляют собой универсальную ценность для каждого выпускника средней школы, независимо от выбора им дальнейшего пути профессионального роста, и в первую очередь это касается граждан России, где очень многое обусловлено географией. (Здесь просится напомнить, хотя спорное, но любопытное высказывание Наполеона Бонапарта: «Думаю, что судьба России больше зависит не от истории, а от географии, от геополитического положения. Скорее, география России определяет её историю, чем - наоборот). Данный тезис подкрепляется тем, что в учебном предмете «география» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и других наук, которые не преподаются в школе. Именно благодаря географии учащиеся получают определенное представление об объектах этих наук.
И если возможности Интернета позволяют сегодня получить любой фактологический материал, то его оценка, установление сложнейших жизненно значимых взаимосвязей в системе « природа – человек – общество – научно-технический прогресс – экологическая обстановка – условия жизни людей » нуждаются в географическом осмыслении. Бывает и так, что прагматический настрой мышления того, кто черпает факты лишь из Интернета, ограничивает его желание вообще что-либо понимать.
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
Список литературы Географическая праксиология и модернизация страны
- Балиев А. Новый план развития Севморпути: в приоритете – восточный сектор // Интернет-журнал «Военно-политическая аналитика». – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://vpoanalytics.com/2022/08/16/novyj-plan-razvitiya-sevmorputi-v-prioritete-vostochnyj-sektor/
- Герасимов И.П. Советская конструктивная география: Задачи, подходы, результаты. – М.: Наука, 1976. – 208 с.
- Гладкий Ю.Н., Бочарников И.Н. Новый шелковый путь и место России в глобализации по-китайски // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 2. – С. 58–65.
- Гладкий Ю.Н., Махова И.П., Гладкий И.Ю. Геофизические и экономические детерминанты развития ветроэнергетики в России: противоречивая связь // Общество. Среда. Развитие. – 2018, № 3. – С. 88–95.
- Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 844 с.
- Дискин И. Е. Кризис… И все же модернизация. – М.: Европа, 2009. – 342 с.
- Иноземцев В. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. – М.: Альпина-Паблишер, 2018. – 406 с.
- Колесников Р.А., Локтев Р.И. Анализ развития туризма в Ямало-Ненецком автономном округе и его вли- 6яния на социально-экономическое развитие региона // Ямальский Вестник. – 2015, № 2 (3). – С. 64–69.
- Колесников Р.А. Региональные особенности социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа // Наука сегодня: проблемы и перспективы развития. Материалы конференции «Наука сегодня: проблемы и перспективы развития». – Вологда: Маркер, 2015. – С. 76–80.
- Колесников Р.А. Роль и место представительного органа правительства Российской Федерации в процессах социально-экономического развития Арктического региона // Арктика: современные проблемы развития региона: вызов. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2014. – С. 36–42.
- Ларченко Л.В., Колесников Р.А. Зарубежный опыт регулирования процессов развития малочисленных народов Севера // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015, № 10–2. – С. 54–56.
- Красильщиков В.А. Вдогонку за уходящим веком: развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. – М.: РОССПЭН, 1998. – 263 с.
- Мартынов В.Л., Кузин В.Ю. Границы Арктики и границы в Арктике // Арктика. XXI в. Гуманитарные науки. 2018. – № 2 (160). – С. 4–17.
- Мартынов В.Л. «Холодная война» в Северном Ледовитом океане: войска ПВО страны в Арктике (50-е – 90-е годы XX века) // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. – 2015, № 1 (4). – С. 75–85.
- Модернизация: зарубежный опыт и Россия. – М.: Инфомарт, 1994. – 115 с.
- Общественная география в России: взгляд в будущее / Под ред. П.Я. Бакланова, А.Г. Дружинина, В.А. Колосова. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. – 130 с.
- Российская модернизация: проблемы и перспективы // Вопросы философии. – 1993, № 7. – С. 3–40.
- Шпектор И.Л. Развивая экономику, надо защищать Север // Региональная энергетика и энергосбережение. – 2016, № 5. – С. 26–29.
- Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold. – Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2003. – 270 p.
- Keltie J. Applied Geography: A Preliminary Sketch. – London: G. Philip & son, 1890. – 169 p.
- Stamp L.D. The Land of Britain: Its Use and Misuse. – London: Longmans, Green and Co. L., 1963. – 546 p.