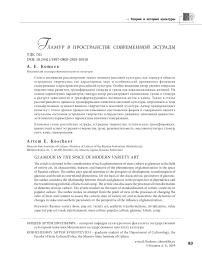Гламур в пространстве современной эстрады
Автор: Кощеев Артм Евгеньевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению такого явления массовой культуры, как гламур в области эстрадного творчества, его характерных черт и особенностей проявления феномена гламуризации в пространстве российской культуры. Особое внимание автор уделяет вопросам перспективы развития, трансформации гламура и трэша как взаимосвязанных явлений. На основе характерных параметров гламура автор рассматривает взаимосвязь трэша и гламура в ракурсе зависимости и трансформирующего потенциала китча и кэмпа. Также в статье рассматриваются процессы трансформации элементов массовой культуры, затрагивается тема стандартизации художественного творчества в массовой культуре. Автор предпринимает попытку с точки зрения процессов изменения соотношения формы и содержания оценить актуальное состояние эстрадного творчества и определить динамику изменений ценностноэстетических параметров в перспективе влияния гламуризации.
Российская эстрада, эстрадное творчество, эстетические трансформации, ценностный аспект эстрадного творчества, трэш, развлекательность, массовая культура, гламур, китч, кэмп, гламуризация
Короткий адрес: https://sciup.org/144161324
IDR: 144161324 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10510
Текст научной статьи Гламур в пространстве современной эстрады
В начале XXI века в российском общественном сознании возникает устойчивая взаимосвязь между понятиями «эстрада» и «гламур», неотделимыми от категории «массовая культура». На наш взгляд, истоки специфического взаимодействия этих элементов массовой культуры лежат в трансформации ценностно-смысловых оснований российской эстрады 1980–1990х годов, когда тема материального изобилия, «красивой» жизни становится одной из центральных тем многих эстрадных исполнителей (Богдан Титомир, группа «Комбинация», группа «Кар-Мен» и другие). Как правило, в эстетике их сценической деятельности гламурные моменты презентации ценностей «потребительского гедонизма» занимают видное место.
Трансформация эстрадного творчества в немалой степени обусловлена и технологическими факторами распространения массовой культуры. С развитием радио и, особенно, телевизионного вещания, начиная с середины XX века, эстрадные формы массовой культуры получили новый импульс для повсеместного распространения, ранее ограниченного записями и живыми выступлениями. И если ранняя телевизионная эстрада существовала преимущественно в качестве «дублёра» концертной формы (трансляции концертов и отдельных выступлений), то к 1980–1990-м она заняла уверенные позиции в сетке вещания, сохраняя жанровое разнообразие посредством адаптации концертных форм к специфике телевидения. Телевидение стало одной из самых эффективных площадок для развития эстрады. Эстрадные формы легли в основу практически всего пласта современного развлекательного телевиде- ния: театр миниатюр трансформировался в скетч-шоу, конферанс стал прародителем формата вечерних шоу, эстрадный фельетон – основой для таких телепроектов, как «Прожекторперисхилтон», телевизионные эстрадные концерты (в том числе «Старые песни о главном» и т.п.) и другие адаптированные формы.
Данное явление носит неоднозначный характер с точки зрения содержательности. Не случайно в диссертации С. Н. Акинфеева «Жанровая структура российского развлекательного телевидения» [1] делается особый акцент на превалировании в телевизионных шоу развлекательной, рекреативной функции. Стоит заметить, однако, что некоторые телепрограммы эстрадной направленности, в частности «Достояние республики», «Три аккорда», построенные в жанре ревю, отражают эстетическими средствами полистилистику отечественной эстрады и творческую манеру её «знаковых» деятелей, тем самым реализуя в своеобразной форме и познавательную функцию.
В связи с трансформацией эстрадных форм в ключе устремления к внешней выразительности в ущерб смысловому содержанию сегодня мы можем выделить некоторые эстетические особенности в развитии таких явлений эстрады, как гламур, трэш, кэмп, китч. Причём китч и кэмп в контексте трансформации являются одними из инструментов, тогда как гламур и трэш правомерно рассматривать как тенденции изменений в сфере эстрадного творчества. Как утверждает С. Гандл, американский кинематограф являл собой уже в 1920–1940-е годы «наиболее совершенное воплощение гламу- ра всех времён». Голливуд придумал «воображаемую Америку, землю свободы, терпимости, богатства и самореализации» [2]. Это стало своего рода вариацией идеи эскапизма, которую Е. Н. Шапинская определяет в качестве «представления обычных вещей в необычном свете» [14].
Гламур, как попытка создания альтернативной реальности, где изобилие, гедонизм и беззаботная жизнь составляют его базис, в социокультурных реалиях России имеет некоторые отличия от общемировых трендов. Так, в западном обществе шик, блеск страз становится униформой для богатых [11]. В российском же культурном пространстве, по большому счёту, отсутствие собственных модных парадигм как таковых в момент социальных перемен 1980– 1990-х годов привело к тому, что гламурные устремления к «золотой мечте» стали трактоваться наоборот – как средство выражения индивидуальности. Но по мере своего развития внешние проявления идеи гламура становятся знаком приверженности к некоторому «высшему» обществу, по сути являясь той же «униформой». Стоит отметить, что гламур особенно ярко выразился в эстрадном творчестве в качестве своеобразного манифеста новых жизненных устремлений, желания более молодого поколения уйти от серости повседневной жизни, а далее посредством моды, массмедиа проник и в повседневную жизнь общества.
В качестве эстетической категории гламур рассматривается в трудах Е. В. Никольского – как феномен, «связанный с культурой массового потребления, модой и шоу-бизнесом» [6]. Более того, автор отмечает «космическую несовместимость» гламура с «высокими» эстетическими категориями, а даже, наоборот, пишет об органическом единстве с «низкими категориями», говоря, что «гламур безобразен… по отдельно- сти и вещи, и предметы, и гламурное окружение могут быть как минимум более-менее приемлемыми для созерцания. Однако собравшись воедино… превращается в нечто безвкусное, никакого чувства, лишь продиктованные модой условия…» [7]. В свою очередь, мы бы отметили, что гламур, согласовываясь с «низкими» эстетическими категориями, стремится выглядеть как категория «высокая», что подтверждается тезисом К. Ю. Точилова о том, что гламур представляет собой симулякр, который определяется как «специфический феномен, связанный с миром потребления товаров (услуг), с модой, культурой “шоу”, стилями жизни...» [10].
Стоит подчеркнуть, что гламур – это не искусственное явление, а плод развития общества потребления, существующий в соответствии с его законами. С онтологической точки зрения заслуживает внимания ряд параметров гламура: это мимикрийность, которая заключается в скорейшем приспосабливании под новые условия; противоречивость, проявляющая себя в доведении некоторых форм до самоотрицания и одновременном культивировании идеи «вечной молодости» и бессмертных брендов с вековой историей; иллюзорность разнообразия, заключающаяся в подмене реальных изменений только сменой внешнего проявления; трансформация интимного в публичное, отказ от «личности» в направлении понятия «маска» [3].
На данный момент можно предположить, что гламур стал вполне устоявшимся явлением, которое более не выглядит так причудливо и провокационно, как прежде, а воспринимается большинством людей как часть повседневности, что противоречит естеству гламура как уходу от обыденной реальности. Однако эстетизация установки на славу и богатство как ценностей жиз- ни продолжает быть одним из направлений массовой культуры. И сегодня это рождает некоторые видоизменения, а именно – активное влияние китча и кэмпа в пространстве гламура создаёт новый вид гламура – трэш. На наш взгляд, трэш – это трансформированный гламур, стремящийся к созданию нового облика себя самого.
В последнее время трэш активно стремится занять лидирующие позиции в массовой культуре. Зародившись в 1950-х годах, трэш (от англ. – мусор, хлам), по определению Ф. В. Фуртай, являл собой «художественный или пародийный вариант высокого образца» [12]. Трэш, как и в определённой степени гламур, это образ жизни, своеобразное мировоззрение отрицания причастности к обыденности, общепринятого порядка. Если гламур проявляет себя через блеск, стразы, розовый мех, мягкость, то «привлекательность трэша – в его брутальной энергетике, неожиданности и непредсказуемости, в противостоянии коммерческому мэйнстриму, чем он и импонирует интеллектуалам» [9]. Среди характер- ных черт трэша можно выделить агрессию и маргинальность, то есть черты в определённой степени полярные тому, что мы называем гламуром. Такая нарочитая внешняя несовместимость трэша и гламура и созвучность сущностных идей данных феноменов раскрывают единое основание их возникновения и развития.
И если в Англии трэш начал проявлять себя ещё 70 лет назад, то в российском культурном пространстве это явление весьма новое и малоизученное. Основной причиной яркого проявления трэш-эстетики в России, как мы полагаем, стало в некоторой степени «пиковое» развитие гламура, ставшего, как уже отмечалось, привычным явлением. По сути, путь развития гламура, стремления к нему как к симулякру, не формулирующему новые содержательные, устойчивые ценностные ориентиры, привёл его к собственным истокам – повседневности. По нашему мнению, трэш направлен на некоторую деконструкцию гламура. Иронизируя над данным явлением, трэш, так же, как и ранее гламур, пытается дистанцироваться от него, считая черты его проявлением повседневности. Трэш – это своеобразная попытка создать «гламур для умных».
Если гламур и трэш сравнительно недавно вошли в обиход нашей жизни, то китч в течение ряда десятилетий привлекал внимание исследователей массовой художественной культуры и как понятие, и как явление, отражающее изменения в сфере творчества и вкусовых предпочтениях. Однако сегодня мы можем наблюдать тенденцию использования термина «китч» в качестве одного из понятий постклассической эстетики, обозначающего факт искажённого взаимодействия искусства и реципиента в контексте массовой культуры. Но по сути своей китч так и остаётся явлением мас- скульта, основными параметрами которого являются упрощение, тривиализация, пошлость, отсутствие глубины и художественной ценности. Как отмечает современный исследователь А. Ф. Поляков, «китчем используются только те художественные артефакты, которые уже доказали свою эффективность для публики и репродукция которых не рискует быть революционным открытием, пусть даже удачным» [8]. Данное суждение раскрывает очень важную черту китча, позволяющую отличать его от кэмпа. Китч довольствуется ранее созданным художественным материалом, как и кэмп, но, в отличие от него, не стремится создать нечто поражающее новое, а лишь репродуцирует объект, а кэмп, в свою очередь, через чрезмерное усложнение и деконструкцию смыс- лового содержания стремится к формулированию нового смысла произведения.
В свете вышесказанного правомерно рассматривать китч в качестве логичного, системного плода тенденций гламу-ризации эстрады, занимающей видное место в эстетическом пространстве массовой культуры. Массовый поток неминуемо ведёт к некоторой стандартизации производимого объекта, что довольно сложно соотносится с областью художественного. На наш взгляд, китч и кэмп – это некоторый выход в необходимый для массовый культуры «стандарт». В качестве примера проявления китча как инструмента гламуриза-ции современной российской эстрады можно рассмотреть образ Ольги Бузовой. Для данного случая видится уместным не разделять сценическую, общественную жизнь, образ, созданный массмедиа, так как гламу-ризация проявляется именно как совокупность всех публичных выражений артиста. Образ Ольги Бузовой представляется, по сути, некоторым стереотипным стандартом поп-исполнителя, выражающимся в следующих чертах: песни с тривиальным содержанием и музыкой, вызывающее поведение на сцене и экране, личная жизнь на показ, стремление быть замеченной в различных скандалах и конфликтах. Важно отметить, что данные проявления зачастую не производят ни шокирующего эффекта, ни вызывают восторга, а служат лишь поддержанию образа, созданного в информационном пространстве. Каждый из подобных артистов стремится к созданию индивидуального стиля органичного общей массе таких же индивидуальностей.
Кэмп по своей сути является некоторым антиподом китчу, так как он подразумевает эстетизацию безобразного, глупого, стремится к нарочитой изощрённости. Если в Голливуде середины ХХ века кэмп вос- принимался, скорее, как своеобразный технический приём, то сегодня понятие кэмпа стремится занять место в качестве культурологической, эстетической категории. Как отмечает О. Я. Муха, «кэмп – своеобразный симулякр чувственности, обладающий осознанным игровым характером, ироничным самовосприятием и подчёркнуто элитарным характером, специально усложнённый, искусственный, экстравагантный» [5].
В сравнительном анализе О. Я. Муха с определённой долей условности проводит параллели между категориями высокого – низкого и китча – кэмпа. Однако мы позволил бы себе некоторое дополнение к данному утверждению, обратив внимание на иерархическую модель массовой культуры, предложенную А. Н. Ильиным. В данной структуре массовая культура предстаёт пирамидой, где основание составляет китч-культура, середина – мид и вершина – арт [4]. Исходя из логики противопоставления китча и кэмпа (кэмпа и китча), можно предположить, что кэмп стремится соот-нестись, скорее, с уровнями мид и арт, чем с китчем. Отметив, что китч имеет непосредственное отношение к эстетическому объекту, а кэмп – это более способ восприятия, мы предполагаем, что кэмп – это способ устремления к уровню арт посредством нарочитого усложнения, провокационности, экстравагантности, маргинализации высоких образцов искусства и эстетизации низкого ради формулирования новых смыслов. Так, в недавно вышедшем клипе группы Ленинград «i_$uss» эстетизация грязного, пьяного, наркотического мира «ночной жизни» в сопряжении с использованием христианской образно-символической системы рождает смысл некоторого искажённого «высокого» уровня отношений. Парадокс «лжи, провозглашающей правду», лежит в основании кэмпа, который, на наш взгляд, явля- ется активным трансформирующим фактором в пространстве гламур-трэш. Думается, что подобные тенденции вполне соотносятся с трэш-эстетикой. Кэмп, являясь, по сути, способом деконструкции ранее сформулированных смысловых парадигм, должен носить осознанный характер, вследствие чего можно предположить о возможности рождении с его помощью новых ценностных ориентиров. Вероятно, не всегда эти аксиологические устремления вызывают повсеместное одобрение, но вполне возможно развитие данного способа может привести к больше положительным, чем отрицатель- ным результатам.
Эстрадное творчество, являясь частью массовой культуры, также подвержено влиянию гламура, трэша, китча, кэмпа, что неминуемо влечёт за собой качественные изменения как формы, так и содержания. В ряду трансформирующих процессов (три-виализация, сверхактуализация, визуализация и другие) стоит выделить гламури-зацию, неотделимую от трэша: имеется в виду актуализация установки на создание универсального образа, стандарта художественного произведения, приемлемого для каждого зрителя. Внешняя выразитель- ность, зрелищность становятся в данном контексте успешным инструментом воздействия, но часто в массовой культуре в целом и в эстрадном творчестве в частности такие процессы не создают основы для формирования новых ценностных парадигм.
Зрелищность, зачастую лишённая внутреннего содержания, выходит на лидирующие позиции в эстрадном творчестве. Об этом в своё статье «Зрелищность и участие: антагонистические категории анализа современных художественных» несколько предостерегает Н. А. Хисматулина, опираясь на высказывания Дебора: «Зрелищность рассуждает о себе как о чем-то чрезвычайно положительном, неоспоримом и недосягаемом. Она просто заявляет: «всё, что мы видим, – всё прекрасно; и всё прекрасное – перед нами» [13]. Такая зрелищность в пространстве эстрадного творчества становится одним из ярчайших примеров проявления гламуризации. При более пристальном рассмотрении российской эстрады мы можем увидеть, что на данный момент появляются всё новые и новые исполнители, которые стремятся «разбавить» набор состоявшихся звёзд российской поп-сцены, а «мастодонты» эстрады направлены на создание нового имиджа, образа. Но в данном проявлении, стоит подчеркнуть, ничего нового в плане ценностно-смыслового содержания не появляется, что позволяет отметить создание некоторого рода фальшивой конкуренции, борьбы ярких перьев и пайеток.
И последнее. Эстрада, будучи частью массовой культуры, всегда стремилась к развлекательности, зрелищности, к позитивной реакции аудитории. Тем не менее в период становления и активного развития в СССР эстрада сохраняла активную функцию «возбуждения к рассуждению». Сейчас же в эстрадном творчестве над ценностно-смысловым содержанием в большей степени пре- валирует развлекательность эпатажного характера. Другим фактором расширения границ проблематики современной эстрады является коммерциализация: эстрадное творчество всё в большей степени становится «заложником» рынка брендов и звёзд. Гламуризация, включающая на данный момент и феномен трэша, видится одновременно и проявлением, и одним из источников вышеуказанных проблем. Сейчас этот процесс, скорее, является лавинообразным, то есть не поддающимся влиянию, отсюда важность выявления механизмов совершенствования содержательно-стилистических основ эстрадного творчества.
Список литературы Гламур в пространстве современной эстрады
- Акинфиев С. Н. Жанровая структура российского развлекательного телевидения: дис. на соиск. учён. степ. кандидата филологических наук: 10.01.10 / Акинфиев Сергей Николаевич. Москва, 2008. 161 с.
- Гандл С. Гламур / пер. с англ, под ред. А. Красниковой. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. С. 150-151.
- Дроздова А. В., Беляев В. П. Идеология современного гламура // Дискурс-Пи. 2010. № 1-2.
- Ильин А. Н. Иерархическая модель массовой культуры // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 2.
- Муха О. Я. Китч и кэмп как новое высокое и низкое. Революция бинарных отношений в эстетике // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2013. № 1 (13).