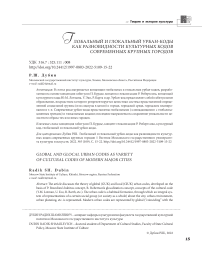Глобальный и глокальный урбан-коды как разновидности культурных кодов современных крупных городов
Автор: Дубин Радик Шамилевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (109), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концепция глобальных и глокальных урбан кодов, разработанная на основе концепции габитусов П. Бурдье, концепта глокализации Р. Робертсона, концепций культурного кода Ю.М. Лотмана, У. Эко, Р. Барта и др. Урбан код представляет собой габитуальное образование, посредством которого репрезентируется целостная система представлений определенной социальной группы (или социума в целом) о городе, городской среде, городском планировании и т. п. Современные урбан коды представлены глобальными («совпадающими» с глобализационным трендом) и глокальными кодами; последние направлены на сохранение уникальности целостного образа тех или иных городов.
Концепция габитусов п. бурдье, концепт глокализации р. робертсона, культурный код
Короткий адрес: https://sciup.org/144162595
IDR: 144162595 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-5109-15-22
Текст научной статьи Глобальный и глокальный урбан-коды как разновидности культурных кодов современных крупных городов
Процессы урбанизации, динамично развивающиеся в течение последних столетий, связаны с глобализационными трансформациями. Последние оказывают все более существенное влияние на социальноэкономические, политические, демографические, культурные и иные условия жизни людей. Способствуя массовым перемещениям людей и идей, капиталов, образов жизни, их «смешению», глобализация формирует новые модели и стандарты – в том числе, в рамках пространственных практик, городского планирования и городской среды, ее визуального образа и эстетического восприятия. «Практически все глобальные города идут по пути воплощения идеи «интернационального» пространства города как основы своего имиджа. Если мы возьмем Нью-Йорк и Гонконг, то в их отдельных чертах мы найдем больше общего, чем отличий» [7, с. 144]. В связи с этим возникает необходимость глубокого и всестороннего анализа сочетанного влияния, оказываемого глобализацией и противостоящими ей процессами на динамику визуальных образов современных городов.
Предложенная нами интерпретация городских культурных кодов базируется на нескольких методологически значимых для нас источниках: концепции габитусов П. Бурдье, концепте глокализации Р. Робертсона и трактовке культурного кода, разработанного Ю. М. Лотманом.
Французский социолог второй половины ХХ века Пьер Бурдье – один из создателей теории практик – в своей работе «Наброски теории практики» [11] ввел в научный оборот понятие габитуса. Посредством габитуса, как организующего принципа действия, опреде- ленные социокультурные условия, с одной стороны, самовоспроизводятся через своих «агентов» («реплицируются»), с другой – продолжают оказывать собственное воздействие на этих «агентов», то есть на индивидов и сообщества, выступающие субъектами данной «репликации» социальных и культурных обстоятельств.
Габитус (от латинского habitus – «привычный») обозначает такие привычные поведенческие практики, которые «варьируются не просто в зависимости от индивидов и их подражательных действий, но главным образом в зависимости от различий в обществах, воспитании, престиже, обычаях и модах » [8, с. 178]. Согласно Бурдье, габитус «прививает» своим коллективным агентам определенные мировоззренческие представления, придавая объектам – материальным или нематериальным – ту или иную «ценность», в том числе, культурную. (Одни объекты «ценятся» и соответственно высоко оцениваются, другие – наоборот) [14].
Несмотря на то, что первичным агентом габитуса выступает индивид, сами «привычные» практики представляют собой коллективное образование, своеобразный инструмент, способствующий тому, что те или иные условия постоянно воспроизводятся в общественной жизни. В рамках такого «коллективного агента», как правило, репрезентируются доминирующие привычные социокультурные подходы той или иной социальной группы и/ или социума в целом. Именно поэтому, габитус, по словам Бурдье, представляет собой образование одновременно «коллективное» и «субъективное» (но не индивидуальное!). Ведь габитуальные (habitual) практики есть
«процесс и результат усвоения (интериори-зации) объективных социальных отношений, но, в то же время, собственный (субъективный) ресурс поведения агента, порождающий социальные практики» [3, с. 159].
Бурдье удалось на множественных примерах продемонстрировать, как работает механизм воспроизводства социокультурной средой как средств собственного производства, так и условий, позволяющих проводить анализ воздействия этого воспроизводства на коллективного субъекта габитуса. Само «ощущение» как габитуса, так и определяемой габитуальной «ценности» объекта, по Бурдье, передается через определенные габиту-альные же институты. Этот процесс обычно начинается с семейного окружения, а затем закрепляется с помощью других институтов, таких как образование и трудоустройство. Эти институты постоянно укрепляют (а иногда реструктурируют и изменяют) исходные шаблоны культуры и социальности субъекта, то есть шаблоны, с помощью которых субъект относится к миру и другим людям. [14].
Бурдье говорит также о специфических «культурных габитусах», развивающихся под воздействием историко-культурных условий, включающих смысловые, ценностные и эстетически значимые элементы [2, c. 18]. Некоторое «пересечение» этого подхода можно видеть с концепцией «культурных кодов», получившей развитие в современном гуманитарном знании, в трудах философов, культурологов, семиотиков, в том числе, в трудах Ролана Барта и Умберто Эко, а также – в работах выдающегося отечественного мыслителя Ю. М. Лотмана. В сборнике «Се-миосфера», рассуждая о тексте культуры (под «текстом культуры» в семиотической системе Лотмана понимается не литературный и даже не художественный «текст», а шире – любой значимый культурный артефакт как таковой), Лотман выделяет в качестве особой его характеристики «перевод уже имеющегося сообщения в новую систему значений» [6, c. 172]. «В этом состоит универсальность такого понимания концепта “культурный код”, спо- собность выполнять функции устойчивого и неизменного культурного субстрата при всей изменчивости и многообразии культурной субстанции» [4, c. 153].
Культурный код имеет собственную структуру, упорядочивающую восприятие текста культуры. Эту «структурирующую» функцию культурного кода подчеркивают как Ю. М. Лотман, так и У. Эко, писавший, что способом ее реализации выступают «правила сочетания, упорядочения символов» [10, c. 432]. Р. Барт же видит в культурном коде, прежде всего, компендиум коллективной памяти, ««культурные прецеденты, приобретшие сконцентрированный, парадигматический и иконический характер» [1, c. 248].
В целом можно сказать, что культурный код в определенной (но не в полной!) мере синонимичен таким понятиям, как «культурная традиция» и/или «культурная матрица»; последнее понятие рассматривают также как «наиболее общий культурный код для понимания текста определенной культуры» [4, с. 159]. Культурный код, как правило, не имеет некоего «официального», институционального оформления, да и не нуждается в нем, функционируя и развиваясь на уровне, скорее, коллективной психики и массовой перцепции артефактов культуры.
В качестве такого культурного кода крупного города мы рассматриваем урбан-коды. Термин «urbancode» получил распространение в коммуникативном пространстве современной культуры, но не в качестве академического понятия, а применительно к сфере повседневности: к моде, одежде, парфюму – т. е. к некоему городскому стилю жизни; существует также торговый бренд с таким названием. Мы же предлагаем расширить границы понимания термина, используя его применительно к современному городскому пространству как понятие, отображающее габитуальное образование, посредством которого репрезентируется целостная система представлений определенной социальной группы (или, опять же, социума в целом) о городе, городской среде, городском планировании и т. п. Урбан-код, как и габитус в представлении П. Бурдье, с одной стороны выступает как некий синхронический «срез» подобных представлений, с другой – и сам может существенно влиять на эти представления, видоизменяя их, тем самым являя уже не синхронический, а диахронический аспект проблемы.
К важным характеристикам урбан-кода относится тот факт, что, будучи изначально неким «идеальным», нематериальным образованием, он находит свое воплощение в материальных объектах – элементах городского планирования и т. п. В то же время определенный «идеальный» аспект сохраняет свою значимость и при физическом воплощении урбан-кода: ведь в качестве основы здесь выступает человеческая мысль – решения архитекторов, планировщиков и др., принятые в соответствии с тем или иным устоявшимся урбан-кодом (или же в противостоянии ему).
В современных условиях – в первую очередь, в условиях активного глобализационного процесса последних десятилетий – можно говорить об уже сформировавшемся и многократно реализованном на практике глобальном урбан-коде . Говорить здесь о габитусе в том смысле, который вкладывал в этот термин П. Бурдье, позволяет нам, в том числе, выраженная ориентация городского планирования на доминирующие социокультурные ценности. Так, Дж. Кроуфорд, автор популярного в США труда «Города без автомобилей» [13], размышляя о городском планировании, утверждает: «Модели часто менялись с тех пор, как первые города были основаны десять тысяч лет назад. Изменения обусловлены множеством факторов, наиболее важными из которых являются ценности, философия , системы управления, численность населения, художественная восприимчивость». Выделено нами. – Р.Д. [12]. И только уже вслед за этими важнейшими факторами автор называет методы проектирования, методы строительства и транспортные технологии.
Глобальный урбан-код «глобален», прежде всего, в том смысле, что с высоким постоянством воспроизводится в самых разных городах планеты вне зависимости от принадлежности тех или иных городов (как минимум, крупных) и представляемых ими стран к тем или иным общественным системам, политическим или экономическим блокам. Таким образом, базовые маркеры глобального урбан-кода являются характеристиками универсальными.
К числу таких маркеров относятся, например:
-
1) функционализм, практичность, рационализм;
-
2) многоэтажность и плотная застройка;
-
3) четкий геометризм, преобладание прямых линий;
-
4) материалы – бетон, стекло, металл;
-
5) часто – секуляризация религиозных объектов.
У каждого из этих элементов есть собственные характерные признаки. Например, фактор «практичности» во многом способствовал признаваемой сегодня широкими кругами общественности деэстетизации городского пространства в середине и во 2-й половине прошлого столетия во многих городах. Стремление к экономической эффективности приводило зачастую к призыву отказываться от архитектурных «излишеств» и подобной «непрактичной мишуры», связанной с серьезными материальными затратами. Такой подход особенно развивался в связи с глобализационными тенденциями, в частности, с тем, что на глобализацию была в свое время в значительной степени ориентирована застройка американских городов.
Для формирования эффекта «истинного» глобального урбан-кода важна взаимная согласованность составляющих его элементов. Так, критерий «практичности» реализовывался сам по себе уже в исторической ретроспективе, начиная со строительства первых городских укреплений. Жители окрестностей, как правило, собирались в одном «огороженном» (то есть защищенном в военном отношении) месте именно с целью защиты от возможного нападения врага, и такое решение было, несомненно, и «практичным», и «рациональ- ным». Рост этажности городских построек, использование определенных материалов – все это в свое время было обусловлено, в первую очередь, экономическими факторами, а не следованием какому-то «коду», тогда как сегодня эти маркеры уже почти на уровне коллективного бессознательного воспринимаются именно и непосредственно как элемент системы.
В то же время не все из указанных маркеров являются строго обязательными в качестве элементов обсуждаемой системы. Так, секуляризация культовых построек (путем, например, превращения церквей и храмов в музейные и культурные комплексы) больше характерна для западных стран, откуда, собственно, и берут свое начало глобализационные процессы. В большинстве стран Азии, даже в тех современных городах, где глобальный урбан-код присутствует со всей очевидностью, этот маркер достаточно часто либо выражен незначительно, либо не выражен вовсе. Исламские и буддистские культовые строения – мечети, буддистские храмы, ступы и статуи Будды и др.– сохраняют, как правило, свое значение именно в качестве культовых сооружений.
И это – один из поводов задуматься о существовании не только определенных глобальных тенденций в городском планировании и строительстве, но также и о явно присутствующих сегодня в мире тенденциях противоположных (в сочетании с глобальными). Крупные мегаполисы планеты в подавляющем большинстве – даже при активно репрезентируемом в их городской среде глобальном урбан-коде – сохраняют в то же время черты собственного своеобразия, уникальности и индивидуальности, что позволяет ставить вопрос не только о «глобальном», но и о «глокальном» урбан-коде.
Само понятие «глокальности», в котором зримо соединяются такие, казалось бы, несовместимые категории как global (глобальный, «общеземной») и local (местный, региональный), тесно связано с концепцией «глокали-зации», разработанной когда-то британским социологом Роландом Робертсоном. Первона- чально термин «глокализация» использовался японскими бизнес-компаниями. В 1980 году Р. Робертсон использует его уже как академическое социологическое понятие в нашумевшей впоследствии статье, опубликованной в журнале «Harvard Business Review». Понятие это, по Робертсону, призвано отобразить, прежде всего, единовременность наблюдаемых в сегодняшнем мире, хотя и контрастирующих друг с другом, тенденций – «универсализирующих» (которые можно рассматривать и как центростремительные, поскольку в них действительно отображается стремление различных объектов к некоему единому центру) и «партикуляризирующих» (центробежных). «Глокализация … фиксирует, что рост значимости континентальных и глобальных уровней происходит вместе с ростом значимости локальных и региональных уровней. Более того, понятие глокализации подчеркивает взаимозависимость глобальных и региональных уровней» [9, с. 5].
Н. Н. Кожевников и Н. Л. Пашкевич видят в глокализации, прежде всего, стратегию – а именно такую стратегию, которая удачно сочетает в своих рамках общемировые и региональные ориентации и интересы коллективных субъектов политических, экономических, культурных и т. п. отношений. В этом смысле ими понимается воспринимаемое уже как почти синонимичное термину «глокализация» понятие «новый регионализм». От привычного «регионализма» прошлого века «новый регионализм» отличается тем, что, во-первых, организуется скорее как сетевая, нежели иерархическая структура (инициация, принятие и реализация решений «снизу», а не «сверху»). Во-вторых, существенно расширяются его рамки, включая в себя уже не только экономическую проблематику, но также более общие вопросы общественной и культурной жизни [5, с. 111–115].
В применении к социокультурным процессам глокализация, по Робертсону, означает проявление региональной («локальной») культуры, традиционных для нее норм и ценностей, ее артефактов, противостоящих во многом агрессивному и чрезмерно стандартизированному влиянию глобализационных трендов. Это же противостояние мы наблюдаем, в сущности, и в развитии городской среды большинства крупных современных городов. Исходя из вышеозначенного понимания гло-кальности, мы рассматриваем глокальный урбан-код в качестве антиномичного глобальному урбан-коду.
Важно еще раз подчеркнуть, что глобализационные и «глокализационные» процессы в культуре городского планирования остаются именно «единовременными». Выступая на поверхностный взгляд противоречащими и даже противоположными друг другу, на деле они практически (за исключением отдельных случаев) не являются настоящими антагонистами. Напротив, здесь следует говорить скорее о взаимовлиянии и взаимном обогащении, углублении. Современный крупный город сложно представить без тех примет, которые мы обозначили как маркеры глобального урбан-кода. Однако не менее сложно вообразить и такой город, который в погоне за полным соответствием стандартам глобализации полностью утратил бы собственное своеобразие и уникальные черты той региональной культуры, которую он представляет.
Если посредством глобального урбан-кода как габитуального образования репрезентируются ценности, непосредственно связанные с современными глобализационными процессами, то главной функцией глокального урбан-кода выступает сохранение уникальных, индивидуальных, «узнаваемых» характеристик целостного образа того или иного города – визуального, эстетического и т. п.
В этом смысле понятие о глокальном урбан-коде тесно связано с представлением о городском брендинге. При этом последний может рассматриваться как компонента (либо даже как частный случай) первого. Соответственно, как и в традиционном брендинге, характеристики конкретных глокальных урбан-кодов (в особенности глокальных кодов тех городов, которые действительно представляют собой в высокой степени уникальную и индивидуальную городскую среду) оказывается в столь же высокой степени уместно представлять посредством коротких и емких метафорических слоганов, отображающих основные характеристики этой уникальности. Примеры:
– Афины – «современная античность». Характерная особенность данного кода: сочетание современных тенденций с последовательным курсом городских властей на сохранение античного культурного и архитектурного наследия и в целом – образа «колыбели западной цивилизации».
– Дубай – «1002-я ночь, или арабская футуросказка». Элементы данного урбан-кода – акцентированная роскошь, фантазматичность, представленная в первую очередь почти шокирующими, «фантастическими» элементами будущего в современной городской среде, и выраженный экологизм. На «глокаль-ный» эффект здесь работает и поддерживаемое городскими властями сохранение как собственно «дубайского», так и общеарабского наследия городской культуры – в виде, например, «аутентичных» исторических кварталов Аль-Фахиди и Хатта («Деревня наследия») или множества мечетей, функционирующих именно как религиозные – а не музейные – центры.
Как можно заметить, большинство указанных выше характеристик глобального урбан-кода совпадает с характеристиками архитектуры эпохи модерна, выделяемыми такими ее представителями, как В. Гропиус, Ле Корбюзье, М. ван дер Роэ и др. По нашему мнению, это объясняется таким же совпадением хронологических рамок начала «взрывного» развития глобализации и развития именно этого направления в архитектуре. Позднее, уже на пике глобализационных процессов, доминирование модернистской архитектуры в современных городах постепенно сменяется все более активным использованием в городской застройке постмодернистских течений – таких, например, как деконструктивизм. С одной стороны, постмодернистская архитектура, по самому факту своего широкого, даже общемирового, распространения, также может рассматриваться как связанная с глобализацией. С другой стороны, общая направленность всего постмодернистского направления в искусстве базируется на фундаментальном принципе раскрытия уникальной индивидуальности культурного объекта, что прямо противоречит максимальной нацеленности на стандартизацию и унификацию, столь характерные для глобального урбан-кода. Мы видим в этом расхождении свидетельство соотнесенности постмодернистской архитектуры не только с глобализационными, но одновременно и с «глокализационными» тенденциями развития мировой культуры; больше того, само это единство по видимости противоположных устремлений наиболее характерно именно для «глокального» дискурса, в рамках которого, в отличие от дискурса глобального, допустимы всевозможные и разноуровневые «компромиссы».
Сравним, например, здания, построенные по проектам Захи Хадид – одной из самых ярких представительниц деконструкти-вистской архитектуры – в Москве и в Дубае. И московский бизнес-центр «Пересвет-Плаза» («Dominion Tower»), и дубайские «Танцующие башни» несут в себе узнаваемый отпечаток авторского почерка З. Хадид, но в то же время каждый из них гармонично вписывается в визуальный «глокальный» образ тех городов, которые они представляют. В «Dominion Tower» можно заметить отголоски раннего советского конструктивизма (несмотря на то, что именно против конструктивистских идей изначально направлен архитектурный деконструктивизм): наряду с плавными, округлыми линиями, «закругленностью» углов и т. п. здесь все-таки доминируют прямолинейные образы, достаточно жесткий «скелет» здания и четкое разделение всей конструкции на конкретные элементы. Тогда как «Танцующие башни» в Дубае отличает прежде всего именно плавность, «текучесть» линий, их пластичность и общая «сглаженность», постепенность переходов между элементами. Все это вместе создает тот самый фантазматический, почти сказочный эффект действительно двигающихся, «танцующих» зданий.
Можно резюмировать, что глобальный и глокальный урбан-коды, являясь вариантами культурных кодов современных городов, представляют собой такие габитуальные образования, которые соответствуют глобализационным (первый) и «глокализационным» (второй) тенденциям в развитии современных городов.
Список литературы Глобальный и глокальный урбан-коды как разновидности культурных кодов современных крупных городов
- Барт Р. Империя знаков. Москва: Праксис. 2004. 144 с.
- Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики // Новое литературное обозрение. 2003. №60.
- Выдрина А.С. «Габитус» Пьера Бурдье как теоретическая основа анализа некоторых видов брендов // Социосфера. 2020. № 2. С. 159-161.
- Гудова М.Ю., Юань М. Концепт «культурный код»: уровни значения // Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments. 2022. № 4. С. 151-159.
- Кожевников Н.Н., Пашкевич Н.Л. Глокализация: концепции, характерные черты, практические аспекты // Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2005. №3. С. 111-115.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- Пучков М. В. Глобализация и идентичность в архитектуре современных городов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2013. № 3 (116). С. 140-147.
- Рубцова О.В. Значение категории «габитус» в социальной философии Пьера Бурдье // Исторические,
- философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 4 (78). С. 178-180.
- Сергеева Н.С. Концепция глокализации и ее трактовки в экономической теории // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. № 11 (157). С. 5-11.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис». 1998. 432 с.
- Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Vol. 16. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Crawford J.H. A Brief History of Urban Form. Street Layout Through the Ages [Электронный ресурс] // URL: https://www.carfree.com/papers/huf.html
- Crawford J.H. Carfree Cities. - International Books, 2000. 323 р.
- Gillespie L. Pierre Bourdieu: Habitus [Электронный ресурс] // URL: https://criticallegalthinking. com/2019/08/06/pierre-bourdieu-habitus/