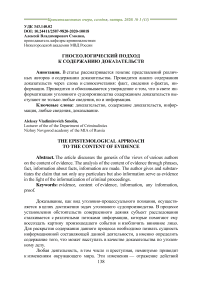Гносеологический подход к содержанию доказательств
Автор: Смолин Алексей Владимирович
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (13), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается генезис представлений различных авторов о содержании доказательства. Проводится анализ содержания доказательств через слова и словосочетания: факт, сведения о фактах, информация. Приводится и обосновывается утверждение о том, что в свете информатизации уголовного судопроизводства содержанием доказательств выступают не только любые сведения, но и информация.
Доказательство, содержание доказательств, информация, любые сведения, доказывание
Короткий адрес: https://sciup.org/143171858
IDR: 143171858 | УДК: 343.140.02 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10018
Текст научной статьи Гносеологический подход к содержанию доказательств
Доказывание, как вид уголовно-процессуального познания, осуществляется в целях достижения задач уголовного судопроизводства. В процессе установления обстоятельств совершенного деяния субъект расследования сталкивается с различными потоками информации, которые помогают ему воссоздать картину произошедшего события и изобличить виновное лицо. Для раскрытия содержания данного процесса необходимо познать сущность информационной составляющей данной деятельности, а именно определить содержание того, что может выступать в качестве доказательства по уголовному делу.
Любая деятельность, в том числе и преступная, неминуемо приводит к изменениям окружающего мира. Эти изменения — отражение действий 138
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === прошлого, по которым субъект расследования опосредованно познает совершенное преступление и придает результатам познания статус уголовнопроцессуального доказательства.
Действующий УПК РФ определяет доказательство как любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Формулировка, обозначающая содержание доказательства, а именно «любые сведения» — достаточно неоднозначна, поэтому их сущность неоднократно становилась предметом изучения процессуалистов и криминалистов. В юридической литературе можно встретить и другие вариации словосочетания «любые сведения», обозначающие содержание доказательства. Так, например, Л. Т. Ульянова отмечала, что доказательствами являются «сведения о фактах» [1, с. 91], П. А. Лупинская интерпретировала их как «доказательственные факты» [2, с. 121—124], Л. Н. Гусев называл их «фактические данные» [3, с. 15]. Кроме того, есть много сторонников так называемого информационного подхода, которыми признается, что содержанием доказательства является «информация» [4, с. 6]. Существует и точка зрения, что вышеуказанные понятия необходимо трактовать одинаково. Так, Р. В. Костенко указывал, что с этимологической точки зрения понятия «информация», «сведения», «фактические данные» тождественны [5, с. 91]. Что примечательно: с точки зрения законодателя, в других отраслях права содержанием доказательств признаются сведения о фактах [6].
В связи с широким спектром точек зрения, необходимо определить сущность содержания доказательства. Большой толковый словарь русского языка [7] устанавливает следующее значение слов, используемых для их определения:
-
— факт — истинное событие, действительное происшествие или реальное явление;
-
— сведения — познания в какой-либо области;
-
— информация — сообщение о состоянии дел где-либо, о каких-либо событиях, процессах и т. п.
Если спроецировать данные понятия на теорию доказательств, можно определить следующее. Факт понимается как установленное событие действительности. Или же — знание, достоверность которого установлена [8, с. 1408]. Особенность уголовно-процессуального познания состоит в том, что субъект расследования познает событие, происходившее в прошлом по тем отображениям данного события, которые он сможет обнаружить и исследовать. Применимо к преступной деятельности, фактами будут изменения, произошедшие в окружающем мире, связанные с совершением преступления только в том случае, если можно будет удостовериться в их подлинности.
При этом игнорируются те промежуточные «островки» информации, которые привели к познанию факта — сведения о нем. В данном случае факт выступает как доказательство исключительно в роли достоверно установленного аргумента.
Процесс доказывания, как познавательная деятельность, не всегда связан со знанием достоверным. Другими словами, если следователь в ходе производства предварительного следствия допрашивает свидетеля об известных ему обстоятельствах произошедшего, на момент окончания допроса, если не имеется иных противоречащих доказательств, то данные показания становятся доказательством. Но при этом не исключается то, что свидетель мог сообщить ложные сведения или же непреднамеренно заблуждаться о каких-то обстоятельствах расследуемого преступления. Очевидно, что в данном случае, пока показания не соотнесены с непознанными на данный момент обстоятельствами расследуемого уголовного дела, нельзя говорить об их полной достоверности, признавать их доказательственным аргументом.
Справедливо отмечал С. А. Пашин: «с помощью доказательств не устанавливается истина, а обосновываются определенные выводы» [9, с. 312]. Доказательства для следователя необходимы для подтверждения или опровержения выдвинутой им версии, обоснованности принятого уголовно-процессуального решения, а не решения вопроса достижения истины. В любом случае говорить о достижении истины, как об одной из задач уголовного судопроизводства, некорректно, поскольку действующий УПК РФ не содержит данного понятия.
Факт — событие материального мира, существование которого не зависит от человека. Им невозможно манипулировать. Это — из области онтологии. Потому в уголовном судопроизводстве аргументами-доказательствами устанавливается доказательственный факт. Это — сфера гносеологии. Если интерпретировать любое доказательство исключительно как доказательственный факт, то следует признать излишним формирование системы (совокупности) доказательств.
Если доказательственный факт интерпретируется как конкретный элемент предмета доказывания, который подлежит установлению, то аргументы-доказательства — результат взаимодействия (взаимоотражения) объектов материального мира. Что важно — эти отражения не всегда могут быть достоверными или же восприняты субъектом расследования недостоверным образом, что соответствует природе уголовно-процессуального познания. Как отмечал А. Ф. Лубин: «расследование преступлений — это вечное преодоление сопротивления предметной и человеческой материи» [10, с. 71]. Результатом сопротивления будут выступать помехи в расследовании, которые могут выражаться как в умышленном, так и неосознанном сокрытии или изменении отображений преступной деятельности. В данном контексте познава-
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === тельная деятельность субъекта расследования всегда связана с информацией, достоверность которой необходимо проверять.
Согласно УПК РСФСР, симбиозом факта и сведений о нем выступало понятие «фактические данные», раскрывавшие с точки зрения законодателя содержание доказательств (ст. 69 УПК РСФСР). По действующему УПК РФ, это понятие было изменено на «любые сведения» (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Некоторые ученые видят в этом необходимость иной трактовки термина «доказательство» [11, с. 142], а другие отмечают, что в этом нет никакого смысла [12, с. 74]. Как представляется, отказ от любых словосочетаний со словом «факт» к раскрытию понятия содержания доказательств необходимо связывать именно с отказом от достижения истины в уголовном судопроизводстве и — одновременно — с расширением информационных подходов.
Термин «информация», вышедший из науки кибернетики, в последнее время широко внедрился во все сферы деятельности человека. При этом его однообразное понимание до сих пор отсутствует. Норберт Винер, являющийся одним из основоположников кибернетики, определил информацию как: «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших органов чувств» [13, с. 31]. Таким образом, информация — это сообщение, полученные человеком о внешнем мире, событии и последствиях этого события, при помощи органов чувств, и им воспринятое.
Понятие доказательства, с точки зрения информационного подхода, традиционно трактуется через понятие сигнала. К. А. Полетаев раскрывал понятие сигнала как тот или иной физический процесс, несущий информацию о событии, явлении, объекте, т. е. выступающий в роли модели события, объекта, явления [14, с. 25—44]. Сигнал выступает как материальный носитель и как средство передачи информации. Проецируя вышесказанное на теорию доказывания уголовного процесса, А. Р. Белкин отметил, что «информация — это совокупность структурных свойств некоторого объекта, моделирующая определенные структурные свойства оригинала. При этом объект, определенные структурные характеристики которого моделируют структуру оригинала, служит носителем информации. Этим объектом является доказательство. Совокупность структурных его свойств, моделирующая определенные структурные свойства оригинала, — доказательственная информация, а моделируемый с ее помощью оригинал — событие, ставшее предметом доказывания, т. е. преступление» [15, с. 78].
Например, любые противоправные действия лица, совершающего преступление на месте происшествия — оригинал, т. е. то, что впоследствии субъект расследования должен познать (ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Носителем же информации о действиях преступника может выступать свидетель, который являлся очевидцем совершения преступления. Доказательственную информацию будут представлять собой непосредственно его показания, попытка
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === перенести тот мысленный образ из его сознания о действиях преступника. Из этого также следует и то, что изначально отражение совершенного преступления отображается в сознании людей и предметах материального мира. При этом они могут стать доказательствами только при должном познавательном процессе субъектов расследования и придании им процессуальной формы. В связи с этим доказательство не может существовать только в виде отражения совершенного преступления в объектах материального мира, или только его формы. Информация свидетеля об обстоятельствах преступления не может стать доказательством, пока не получит своего процессуального закрепления — отражении его показаний в протоколе допроса. В свою очередь, сам по себе свидетель тоже не может являться доказательством, поскольку он лишь носитель информации, и ее необходимо из него извлечь и процессуально оформить. Таким образом, доказательство — это единство формы и содержания.
В юридической литературе термины «информация» и «любые сведения» зачастую употребляются как синонимы. Данное замещение понятий не всегда верно. Разделяя позицию Ю. П. Боруленкова, отметим, что сведения — это осмысленные и осознанные субъектом познания данные [11, с. 141]. Любой след преступления на месте происшествия — информация, содержащая в себе свойства и признаки объекта, оставившего его. Обнаруженный, изъятый и исследованный след — сведения, поскольку субъект расследования может вывести из него определенное умозаключение о механизме совершенного преступления. По сути, сведения — это совокупность информации об одном отображении. Не каждый след становится сведениями, но при этом каждый несет в себе определенную информацию.
Но также это не значит, что в роли доказательств могут выступать исключительно сведения. Если рассмотреть содержание доказательств через призму средств, с помощью которых они могут быть получены, то необходимо остановиться на следственном действии, предусмотренном ст. 186.1 УПК РФ — получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В настоящее время, в связи с развитием средств массовой телекоммуникации, сложно представить совершенное преступление, информация о котором не отразится в одном из них, особенно это касается соединений посредством использования средств сотовой связи. Их анализ помогает установить и связи лиц, совершивших преступление, и их местоположение при совершении соединений, что зачастую представляет весомый интерес при доказывании виновности лица. Предоставляемая компаниями сотовой связи информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами содержит данные о номере абонента, совершавшего соединение, номере абонента, с которым совершалось соединение, времени и местоположении базовой станции, принимавшей сигнал. С одной стороны, это огромные массивы информации, из которой необходимо вычленить именно представляющую интерес для расследования, которая будет подтверждать выдвинутую субъектом расследования версию или опровергать защитную позицию обвиняемого. После осмотра и анализа данная информация превратится уже в сведения, но при этом доказательством являются не только представляющие интерес для расследования сведения, а информация в полном объеме, предоставленная сотовой компанией, а также ее носитель. Это и подтверждает в очередной раз единство формы и содержания доказательства. На это же указывает и законодатель в ч. 6 ст. 186.1 УПК РФ, говоря о том, что доказательством признаются документы, содержащие информацию о соединениях абонента, которые должны приобщаться к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Это можно обосновать и тем, что если признавать в качестве доказательства конкретный необходимый фрагмент сведений, то в ситуации, когда будет получена информация о совершении лицом новых эпизодов преступной деятельности и необходимости дополнительного осмотра и анализа имеющихся соединений, необходимо будет выносить новое постановление о признании в качестве доказательства новых сведений, что приведет к тому, что один и тот же объект, содержащий одну и ту же доказательственную информацию, будет признан доказательством несколько раз.
Данная ситуация касается и иных следственных и процессуальных действий, когда в качестве содержания доказательства выступает именно информация. Так, например, в ходе расследования уголовного дела № 117012200360006891, находившегося в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по факту совершения серии тайных хищений транспортных средств на территории города Нижнего Новгорода, органами предварительного следствия в различных транспортных компаниях была получена информация о пересылке фигурантами уголовного дела фрагментов транспортных средств с идентификационными номерами, что подтверждало причастность отправителей и получателей к данной преступной деятельности. После осмотра и анализа предоставленной информации последняя была признана в качестве доказательства по уголовному делу. Тем самым в качестве содержания доказательства выступила именно информация, и с каждым вновь появившемся эпизодом преступной деятельности осуществлялся ее дополнительный осмотр и анализ, без нового признания в качестве вещественного доказательства.
Само содержание доказательств раскрывалось с различных вариаций, но с учетом проведенного исследования и гносеологической точки зрения, наиболее точно его можно выразить через информацию и сведения, благодаря их более широкой интерпретации. В связи с этим представляется целесо- образным внести изменения в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, а именно: слова «любые сведения» заменить словами «информация (любые сведения)».
Список литературы Гносеологический подход к содержанию доказательств
- Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. - М.: Изд. дом "Городец", 2008. - 176 с.
- Лупинская П. А. О проблемах теории судебных доказательств // Сов. гос-во и право. - 1960. - № 10. - С. 121-124.
- Гусев Л. Н. Об основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. - М., 1959. - 95 с.
- См. напр.: Писарев Е. В. Доказательство как производная доказательственной информации // Российский следователь. - 2011. - № 3. - С. 5-7.
- Костенко Р. В. Доказательства в уголовном процессе: концептуальные подходы и перспективы правового регулирования: дис.. канд. юрид. наук. - Краснодар, 2006. - 421 с.
- Статья 59 Кодекса административного судопроизводства РФ; ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ; ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ // Доступ из СПС "Консультант плюс" (дата обращения: 14.01.2020).
- Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. // Справ.-инф. портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. - URL: http://gramota.ru/slovari (дата обращения: 14.01.2020).
- Советский энциклопедический словарь. - М.: Сов. энцикл., 1980. - 1600 с.
- Пашин С. А. Проблемы доказательственного права // Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссия. - М.: Междунар. комитет содействия правой реформе, 1995. - С. 67-72.
- Лубин А. Ф. Криминалистические основы деятельности по расследованию преступлений: курс лек. - Н. Новгород: НА МВД РФ, 2014. - 201 с.
- Боруленков Ю. П. Теоретические основы процессуального познания. - Владимир: ВГПУ, 2006. - 257 с.
- Треушников М. К. Судебные доказательства. - М: Изд. дом "Городец", 2004. - 272 с.
- Винер Н. Кибернетика и общество. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. - 199 с.
- Полетаев К. А. Сигнал. - М.: Сов. радио, 1958. - С. 404 с.
- Белкин А. Р. Теория доказывания: моногр. - М.: Норма, 1999. - 429 с.