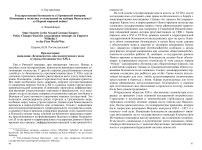Государственная безопасность в Германской империи: изменения в политике от покушений на кайзера Вильгельма I до Первой мировой войны
Автор: Бауэркемпер Арнд
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Европа в прошлом
Статья в выпуске: 1 (75), 2023 года.
Бесплатный доступ
После двух покушений на кайзера Вильгельма I в 1878 г., внутренняя безопасность Германской империи становится важным политическим вопросом. Канцлер Отто фон Бисмарк ловко использовал эти атаки, чтобы запретить деятельность социал-демократов и аффилированных с ними общественных объединений. В дополнение к этому усилился политический надзор, а работа полиции становилась все более профессиональной. Обращение к политике государственной безопасности было важнейшим условием для введения германским руководством после начала Первой мировой войны чрезвычайного положения. В целом внутренняя безопасность была областью политики, отражающей авторитарную структуру Германской империи, которая даже после 1900 г. игнорировала какие-либо возможности для демократизации. Во время Первой мировой войны политика репрессий, начатая с августа 1914 г., коснулась не только подданных враждебных государств, но и немецких противников руководства Германской империи. Эта политика репрессий была основана на том, что традиционные элиты сохранили ключевые компетенции в политике государственной безопасности и были в состоянии беспрепятственно определять «внутренних врагов», о чем свидетельствуют аресты противников войны и «еврейская перепись» в немецкой армии. Эти авторитарные традиции не просто обосновали «особый немецкий путь», но и способствовали в конечном итоге переходу власти к национал-социалистам в 1933 г. Таким образом, поздняя империя не являлась лабораторией перспективной демократии.
Германская империя, первая мировая война, государственная безопасность, политическая полиция, политический терроризм, репрессии, чрезвычайное положение, ксенофобия, антисемитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149142757
IDR: 149142757 | DOI: 10.54770/20729286_2023_1_96
Текст научной статьи Государственная безопасность в Германской империи: изменения в политике от покушений на кайзера Вильгельма I до Первой мировой войны
Policy Changes from the Assassination Attempts on Emperor Wilhelm I to the First World War
Перевод H.B. Ростиславлевой**
Предыстория: появление «безопасности» как политического поля и угрозы безопасности в XIX в.
Уже в Римской империи, при императоре Августе, libertas и securitas стали центральными, взаимодополняемыми понятиями легитимации господства. С другой стороны, республиканцы считали «свободу» и «безопасность» противоположностями. С XII в. власти усиленно стремились снижать риски прежде всего для путешественников. Паломники, ученые и торговцы получали охранные грамоты. Все чаще необходимо было защищать морских путешественников от нападения пиратов. Когда в XII в. в рамках одной торгово-предпринимательской компании (Commenda) произошла дифференциация функций странствующих торговцев и финансистов, то в находящих тогда на подъеме северных итальянских городах (особенно в Венеции и Генуе) возникло страхование морских путешествий. Это позволяло контролировать риски торговли в Средиземном море, особенно перед лицом угрозы пиратов. Однако идея божественного промысла в мироустройстве еще оставалась. Только с появлением институционализированного территориального государства в период раннего Нового времени управление рисками стало задачей и все в большей степени также основой легитимности правления суверена, претендовавшего на формирование будущего в сфере безопасности. В то же время в территориальных государствах раннего Нового времени шел процесс дифференциации внешней и внутренней без- опасности1.
На этой основе государственная власть вплоть до XVIII в. могла последовательно отстаивать свои права на безопасность в борьбе с конкурирующими инстанциями. Однако этот процесс был неравномерным. Кроме того, в период раннего Нового времени не везде еще сложились государственные нации с четко оформленными территориальными границами, как, например, в Священной Римской империи германской нации, которая просуществовала до 1806 г. Таким образом, еще в XVI и XVII вв. режимы личной и территориальной государственной безопасности накладывались друг на друга. Однако в обоих пониманиях безопасность в целом была тесно связана с обеспечением мира и защитой от заговоров (conjuratiae). Кроме того, правители территорий (Territorialherren) сообщали о целом ряде фактов, которые оценивались как «измена» общественной безопасности (securitas publica). И, наоборот, в государствах раннего Нового времени установление безопасности должно было обеспечивать и оправдывать систему господства. В этом смысле термин “Policey” одновременно обозначал как общественный порядок, так и собственно порядок. Однако до Тридцатилетней войны общего понимания безопасности не сложилось. Скорее, доминирующими терминами оставались pax publica и pax civilis. Также власти использовали юстицию для того, чтобы делегитимировать политические преступления и бороться с ними. Однако используемые для этого нормы применялись непоследовательно. Безопасность и порядок при этом находили свое обоснование в прошлом и поэтому должны были быть реконструированы2.
В буржуазном обществе XIX в. обеспечение «спокойствия и порядка» со временем стало основной коллективной потребностью. Стремление к внутренней и экономической стабильности характеризовало политику великих держав после победы над Наполеоном. Долгое время казалось, что монархическое правление, которое было закреплено решениями Венского конгресса (1814 - 1815 гг), отвечало этой цели. Концепция безопасности австрийского министра иностранных дел и государственного канцлера Клеменса фон Меттерниха охватывала как внутреннюю, так и внешнюю политику. В частности, социальные и политические элиты связывали «общественную безопасность» с защитой абсолютизма, частной собственности и сохранением буржуазной системы ценностей.
Начиная с 1819 г. Карлсбадские постановления* использовались в Германском союзе для подавления свободы слова, контроля над университетами, увольнения либеральных профессоров и ужесточения цензуры периодических изданий. Кроме того, появились трансграничное сотрудничество в преследовании оппозиции - особенно в Германском союзе, создание политической полиции и законы, квалифицирующие беспорядки и подрывную деятельность как преступления. В то же время в конце XIX в., в условиях возрастающего участия низших классов в политическом процессе, развитие государства всеобщего благосостояния оказалось необходимым. На этом фоне усиление государственного вмешательства в экономику и общественную жизнь отражало и усиливало ожидания обеспечения безопасности и стабильности. В свою очередь, индивидуальная ответственность за риски все больше обобществлялась. В конце XIX в. происходило постепенное расширение и институциональная дифференциация политики государственной безопасности. Военное право, распространявшееся первоначально только на военнослужащих и гражданских лиц, подданных враждебного государства, было расширено до режима чрезвычайного положения, который должен был оправдать репрессивные меры и против гражданского населения3. Во второй половине XIX в., помимо низших слоев населения, в условиях формирования рабочего движения, его организаций, профсоюзов и партий угрозу монархическому и буржуазному порядку представляли прежде всего анархисты и теракты.
Например, в 1866 г. исключенный из Казанского университета студент впервые попытался совершить покушение на царя Александра II. После ряда других неудачных покушений глава российского государства был убит в марте 1881 г. членом тайной террористической революционной организации «Народная воля» также и потому, что царь после непосредственного нападения, в котором он остался невредимым, проявил заботу о раненых. Все это указывает на то, что Александр II предупредительным отношением намеренно и демонстративно игнорировал опасность, и отражает силу традиционной героико-военной культуры безопасности, основанной на аристократических и военных нормах поведения.
Также министр-президент Пруссии Отто фон Бисмарк, переживший покушение 7 мая 1866 г, был приверженцем традиционных представлений о чести. Точно так же другие политики и монархи демонстративно игнорировали опасность, потому что особые меры защиты не были совместимы с традиционными и до сих пор господствующими представлениями о достоинстве правителя. Более того, процессы в суде или в правительстве и, следовательно, существующий политический и социальный порядок должны были поддерживаться любой ценой4. Однако растущая угроза террористических актов, совершаемых анархистскими движениями с конца 1870-х гг, заставила пересмотреть риски. Этот процесс привел к постепенной профессионализации полиции и росту трансграничного сотрудничества между правительствами в области политики безопасности5.
Кроме того, с середины XIX в. в Центральной Европе ужесточаются исключительные законы, ограничивающие или даже отменяющие гражданские свободы. Уже во времена Германского союза (1815 - 1866 гг.) баварское правительство впервые в 1832 г. ввело осадное положение в Рейнском Пфальце*, чтобы подавить там освободительное движение. Из-за революционных боев в Берлине власти Пруссии в ноябре 1848 г. объявили осадное положение, а генерал Фридрих фон Врангель ввел в Берлине военное положение. Под предлогом обеспечения общественного порядка и безопасности основные права граждан были заранее ограничены, ассоциации распущены, а все гражданские лица разоружены. Наконец, 10 мая 1849 г. прусское правительство издало указ об осадном положении, чтобы подавить революционное движение на всей территории государства. Это было связано с необходимостью утвердить монархический принцип и нивелировать значение представительной системы, которое коренилось в правах палат. Принятая в 1850 г. прусская конституция также оправдывала отмену гражданских свобод «экстренной угрозой общественной безопасности». После этого обе палаты прусского парламента одобрили указ, который был принят как закон 4 июня 1851 г. В 1852 г. специалист в сфере государственного права Лоренц фон Штайн дал научное обоснование чрезвычайного положения, связав государственные законы с особыми предпосылками, ссылаясь на опасность гражданских войн в индустриальных обществах6.
Покушения на кайзера Вильгельма I и его последствия
После двух нападений на кайзера Вильгельма I в мае и июне 1878 г, убийства русского царя Александра II и покушений на других глав государств, таких как английская королева Виктория, произош- ли изменения в культуре безопасности, которые в первую очередь стали результатом изменений в понимании угрозы. С 1870-х гг. попытки покушений со стороны отдельных лиц все чаще заменялись действиями террористических групп. Деперсонализация сопровождалась «технизацией политически мотивированного насилия»7. Изобретение в 1866 г. Альфредом Нобелем динамита позволило в терактах целенаправленно использовать взрывчатые вещества. Комплексные защитные меры заняли место воинской чести и мужественной стойкости. Кроме того, безопасность явно взяла верх над либеральными концепциями невмешательства. Дворяне и консерваторы, а также буржуазные группы в Германской империи были обеспокоены существующим порядком, легитимность которого убийцы и террористы символически ставили под сомнение своими нападениями. Страх элит отразился и в попытках использовать покушения на Вильгельма I и канцлера Отто фон Бисмарка для секьюритизации политики. Прусско-германское правительство увеличило штат полиции в десять раз, а канцлер Бисмарк создал тайную полицию. Во многих других европейских государствах также значительно было усилено центральное руководство силовыми структурами, которые теперь лично охраняли глав государств и ведущих политиков8.
Кроме того, полиция приняла меры против членов оппозиции, которых в Германии называли «внутренними врагами рейха». С этой целью ответственность за два покушения на кайзера была намеренно возложена на социал-демократов, несмотря на явные доказательства того, что преступления совершили анархисты. Против социал-демократов был направлен принятый 21 октября 1878 г. «Исключительный закон против социалистов». К тому же в Германской империи усилились ксенофобия и антисемитизм. «Консервативным поворотом» конца 1870-х гг. были отменены либеральные реформы. Таким образом, политический дискурс переместился от свободы и прогресса к охране и порядку. С наступлением секьюритизации временные и пространственные горизонты ожидания сузились. Не только элиты, но и широкие слои населения стали немедленно требовать безопасности в их среде обитания. Это ожидание продолжало закреплять ведущую компетенцию государства, даже несмотря на то, что в политике все больше проводилось различие между внутренней и внешней безопасностью9.
Под давлением растущей потребности в безопасности также ускорилась интеграция исключительных случаев, таких как осадное положение, гражданские войны и катастрофы, в правовую систему Германского рейха. Конституции Северогерманского союза (1866 г.) и Германской империи (1871 г), опираясь на закон от 4 июня 1851 г, прямо уполномочивали союзного главнокомандующего и, соответственно, кайзера в случае угрозы общественной безопасности объявлять государство в состоянии войны. Согласно статье 68 Конституции Германской империи 16 апреля 1871 г. в случае нарушения юо внутреннего порядка и угрозы государственной безопасности император мог объявить в империи осадное положение. Только в отношении Баварии требовался отдельный указ. Кроме того, император как главнокомандующий вооруженными силами был уполномочен передавать исполнительную власть командующим отдельными военными округами и ограничивать основные права граждан, такие как свобода объединений и собраний. Решение о том, существует ли угроза общественной безопасности, принималось монархом. Таким образом, как отмечали современники, еще до 1914 г. де-факто устанавливалась военная диктатура10.
В условиях чрезвычайного положения власти проводили резкое различие между своими гражданами и «иностранцами». Включение и исключение из сообществ все острее противостояли друг другу. Военно-правовые установления о введении осадного положения должны были оправдать меры, введенные руководством Германской империи с началом Первой мировой войны в 1914 г. В то же время в других воюющих государствах также были установлены режимы чрезвычайного положения и приняты исключительные законы. Они использовались в начале вооруженного конфликта для ограничения гражданских свобод11.
Задолго до начала Первой мировой войны государственные органы Германской империи подчиняли славян-иммигрантов своей политике безопасности. Между 1886 и 1890 гг. усилия по изгнанию всех поляков из страны не увенчались успехом из-за сопротивления аграриев, которые остро нуждались в сезонных рабочих. Однако власти вынудили их зимой вернуться на родину12. С 1907 г. польские рабочие обязаны были регистрироваться отдельно. Подозрение в подрывной деятельности касалось не только восточноевропейских «славян», но особенно с 1910 г. англичан, которых широко обвиняли в подлости, коварстве и холодном расчете. Немецкие националисты и националистическое (volkisch) движение, которое набирало влияние с начала XX в., считали французов «заклятыми врагами». Напротив, пацифисты, которые объединились в «Ассоциацию международного взаимопонимания», основанную в 1911 г, добились незначительного общественного влияния. В целом и до 1914 г. политика против «врагов рейха» была тесно связана с ограничением миграции и укреплением национального единства и этнической однородности. Поэтому государственные институты все чаще вмешивались в экономическое и социальное развитие, не добиваясь при этом, однако, полного контроля13.
С объявлением военного положения 31 июля 1914 г. вступила в силу статья 68 Конституции Германской империи, а значит, косвенно, и прусский закон об осадном положении. В связи с чрезвычайным положением, объявленным кайзером Вильгельмом II, монарх наделил обширными властными полномочиями командующих 62-х военных округов, в том числе правом издавать приказы стали обладать заместители начальников генеральных штабов (Generalkommandos) в 24-х округах армейских корпусов. Исключение представляла только Бавария. Когда командующие округом отправлялись на фронт, они назначали заместителей, которые осуществляли высшую гражданскую власть во имя «общественной безопасности». Для этого они издавали постановления или указы. В своих округах заместители командующих отвечали не только за обращение с военнопленными, но и осуществляли контроль над гражданскими лицами, в отношении которых под предлогом необходимости гарантировать общественную безопасность они могли применить даже задержание “Schutzhaft”. Подобные репрессивные меры использовались не только в отношении гражданского населения вражеских государств, но и противников войны, таких как социал-демократы (например, Карл Либкнехт), анархисты (например, Эрих Мюзам) и пацифисты (например, Карл фон Осецкий). Военное министерство Пруссии* должно было координировать политику безопасности и обеспечивать единообразие действий в 21 военном округе15.
В принципе, заместители военачальников были уполномочены приостанавливать семь основных гарантированных прусской конституцией прав: личную свободу, свободу слова, ассоциаций и собраний, неприкосновенность жилища, право на судебную защиту и запрет исключительного судопроизводство. Организации, которые, по мнению военных, угрожали безопасности Рейха, могли быть запрещены. Кроме того, заместители командующих отвечали за соблюдение закона о чрезвычайном экономическом положении и цензуру. 31 июля 1914 г. в их подчинение была передана и полиция. Иностранцы обязаны были иметь при себе паспорта, а новые удостоверения личности въезжающим в страну больше не выдавались. Это позволяло контролировать мобильность. Кроме того, для всех британцев были введены ночной комендантский час и обязанность ежедневно являться в полицейские участки. Власти также ужесточили контроль в отношении других иностранцев, которые были обязаны регистрироваться, что в принципе применялось и к немцам до 1914 г. Японцы, не покинувшие Германию через Швейцарию, в начале войны были арестованы. Кроме того, на основании «Закона об осадном положении» в рамках «Закона о ведении войны» от 4 августа 1914 г. депутаты Рейхстага уполномочили правительство издавать «законодательные постановления», заменяющие обычные законы, принятые парламентом. Таки образом они практически согласились с существованием «военно-исполнительной власти»16.
Итоги: корни демократии в империи?
В целом политические элиты Германской империи отреагировали широким спектром репрессивных мер прежде всего в связи усилением опасений по поводу безопасности, что значительно увеличило число покушений на Вильгельма II. Просто потому, что они были придуманы, а иногда даже служили предлогом, поэтому страх перед «врагами» глубоко укоренился в национальном эмоциональном сообществе. Их последствия приводили к серьезной правовой дискриминации. Истоки «уголовного права, применяемого к врагам» можно найти еще в XIX в. В это время поиски безопасности вышли за рамки защиты от преступлений и войн и стали включать в себя жизненные риски, такие как старость и болезни, а также обеспечение продовольствием и источниками энергии. В этом процессе расширения и дифференциации «безопасность» как руководящая ценность обещала больше, чем могли гарантировать политические меры. Когда требования безопасности абсолютизировались, то они начинали противоречить буржуазным нормам и «требованиям хорошего общества», таким как свобода и гуманность17.
Что касается более поздних историографических споров о Германской империи, то вряд ли, по крайней мере, как это определяет Хедвиг Рихтер, существуют какие-либо выводы с точки зрения исторической перспективы исследований безопасности для полити- ческой открытости после рубежа веков. Участие граждан в политической жизни увеличилось с 1900 г, о чем свидетельствуют успехи социал-демократов на выборах, подъем женского движения и усиление влияния Рейхстага. Однако интеграция новых социальных и политических групп шла рука об руку с устойчивым исключением «врагов рейха». Их стигматизация даже усилилась, о чем свидетельствует притеснение евреев. Политика репрессий, которая коснулась не только подданных враждебных государств во время Первой мировой войны, но и немецких противников руководства Германской империи, несмотря на приверженность «бургфриден», отнюдь не спонтанно проводилась в жизнь начиная с августа 1914 г. Скорее, она была основана на том факте, что традиционные элиты сохранили ключевые компетенции в политике государственной безопасности и были в состоянии беспрепятственно определять «внутренних врагов», о чем свидетельствуют аресты противников войны и «еврейская перепись» в немецкой армии (1916 г). Эти авторитарные традиции не просто обосновали «особый немецкий путь» (deutschen Sonderweg), но и способствовали в конечном итоге переходу власти к национал-социалистам 30 января 1933 г. Таким образом, поздняя империя не была лабораторией перспективной демократии18.
Список литературы Государственная безопасность в Германской империи: изменения в политике от покушений на кайзера Вильгельма I до Первой мировой войны
- Münkler H. Die Untrennbarkeit von Sicherheit und Risiko - Über die Komplementarität von Strategien und Mentalitäten in Sicherheitsregimen und Risikomanagement // Die Ungewissheit des Zukünftigen. Frankfurt am Main, 2016. S.171-179; Thier A. "Mala futura", "securitas" und "Spekulation": Rechtskulturen des Risikos im historischen Wandel // Aktuelle Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts: Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburstag. Zürich, 2017. S. 854; Scheller B. Die Geburt des Risikos. Kontingenz und kaufmännische Praxis im mediterranen Seehandel des Hoch- und Spätmittelalters // Historische Zeitschrift. 2017. Bd. 304. Ht. 2. S. 314 f., 329 f.
- Härter K., de Graaf B. Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus // Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus: Politische Kriminalität, Recht, Justiz und Polizei zwischen Früher Neuzeit und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2012. S. 3-8; Härter K. Sicherheit und Frieden im frühneuzeitlichen Alten Reich: Zur Funktion der Reichsverfassung als Sicherheits- und Friedensordnung 1648 - 1806 // Zeitschrift für Historische Forschung. 2003. Bd. 30. Ht. 3. S. 415-419; Zwierlein C., de Graaf B. Security and Conspiracy in Modern History // Historical Social Research. 2013. Vol. 38. No. 1. P. 7-15; Zwierlein C. Return to Premodern Times? Contemporary Security Studies, the Early Modern Holy Roman Empire, and Coping with Achronies // German Studies Review. 2015. Vol. 38. No. 2. P. 373, 378 f., 381, 383, 387; Landwehr A. Zukunft - Sicherheit - Moderne: Betrachtungen zu einem unklaren Verhältnis // "Security turns its eye exclusively to the future": Zum Verhältnis von Sicherheit und Zukunft in der Geschichte. Baden-Baden, 2018. S. 50 f.; Krischer A. Von Judas bis zum Unwort des Jahres 2016: Verrat als Deutungsmuster und seine Deutungsrahmen im Wandel // Verräter: Geschichte eines Deutungsmusters. Wien, 2019. S. 22; Conze E. Geschichte der Sicherheit. Entwicklung - Themen - Perspektiven. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2018. S. 76, 81.
- Siemann W. "Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung": Die Anfänge der politischen Polizei 1806 - 1866. Tübingen, 1985; Neocleous M. Critique of Security. Edinburgh, 2008. P. 44-49; Sluga G. Economic Insecurity, "Securities" and a European Security Culture after the Napoleonic Wars // Securing Europe after Napoleon. 1815 and the New European Security Culture. Cambridge, 2019. P. 288, 298, 301; Thier A. "Mala futura", "securitas" und "Spekulation": Rechtskulturen des Risikos im historischen Wandel // Aktuelle Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts: Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburstag. Zürich, 2017. S. 856; Münkler H. Die Untrennbarkeit von Sicherheit und Risiko - Über die Komplementarität von Strategien und Mentalitäten in Sicherheitsregimen und Risikomanagement // Die Ungewissheit des Zukünftigen. Frankfurt am Main, 2016. S. 181; Conze E. Geschichte der Sicherheit. Entwicklung - Themen - Perspektiven. Göttingen, 2018. S.145.
- Dietze C., Schenk F.B. Traditionelle Herrscher in moderner Gefahr: soldatisch-aristokratische Tugendhaftigkeit und das Konzept der Sicherheit im späten 19. Jahrhundert // Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft. 2009. Bd. 35. Ht. 3. S. 368, 371 f., 374, 381, 384; Dietze C. Terrorismus im 19. Jahrhundert: Politische Attentate, rechtliche Reaktionen, Polizeistrategien und öffentlicher Diskurs in Europa und den Vereinigten Staaten 1878 - 1901 // Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus: Politische Kriminalität, Recht, Justiz und Polizei zwischen Früher Neuzeit und 20. Jahrhundert. Frankfürt am Main, 2012. S. 189-192; Mühlnikel M. "Fürst, sind Sie unverletzt?" Attentate im Kaiserreich 1871 - 1914. Paderborn, 2014. S. 33-67.
- Об анархистах и предпринимаемых против них мерах см.: Jensen R.B. The Battle against Anarchist Terrorism: An International History, 1878 - 1934. Cambridge, 2014. P. 75-129; Jensen R.B. The First Global Wave of Terrorism and International Counter-Terrorism, 1905 - 14 // An International History of Terrorism. Western and Non-Western Experiences. London, 2013. P. 16-33; Jensen R.B. The International Campaign against Anarchist Terrorism, 1880 -1930s // Terrorism and Political Violence. 2009. Vol. 21. No. 1. P. 89-109.
- Schudnagies C. Der Kriegs- oder Belagerungszustand im Deutschen Reich während des Ersten Weltkriegs: Eine Studie zur Entwicklung und Handhabung des deutschen Ausnahmezustandes bis 1918. Frankfurt am Main, 1994. S. 34 f.; Boldt H. Ausnahmezustand, necessitas publica, Belagerungszustand, Kriegszustand, Staatsnotstand, Staatsnotrecht // Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart, 1972. S. 356, 359, 362, 364.
- Dietze C., Schenk F.B. Traditionelle Herrscher in moderner Gefahr: soldatisch-aristokratische Tugendhaftigkeit und das Konzept der Sicherheit im späten 19. Jahrhundert // Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft. 2009. Bd. 35. Ht. 3. S. 384.
- Bruns T. 1878 als sicherheitskulturelle Wende in der deutschen Geschichte // "Security turns its eye exclusively to the future": Zum Verhältnis von Sicherheit und Zukunft in der Geschichte. Baden-Baden, 2018. S. 234 f., 237239, 241, 246-249.
- Dietze С. Von Kornblumen, Heringen und Drohbriefen: Ereignis und Medienereignis am Beispiel der Attentate auf Wilhelm I. // Medienereignisse der Moderne. Darmstadt, 2008. S. 45; Dietze C. Terrorismus im 19. Jahrhundert: Politische Attentate, rechtliche Reaktionen, Polizeistrategien und öffentlicher Diskurs in Europa und den Vereinigten Staaten 1878 - 1901 // Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus: Politische Kriminalität, Recht, Justiz und Polizei zwischen Früher Neuzeit und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2012. S. 182-189; Keller L. Beyond the "People's Community": The Anarchist Movement from the fin de siècle to the First World War in Germany // Anarchism 1914 - 18. Internationalism, Anti-Militarism and War. Manchester, 2017. P. 95 f.; Carlson A.R. Anarchismus und individueller Terror im Deutschen Kaiserreich, 1870 - 1890 // Sozialprotest, Gewalt, Terror. Gewaltanwendung durch politische und gesellschaftliche Randgruppen im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart, 1982. S. 215, 234;MühlnikelM. "Fürst, sind Sie unverletzt?" Attentate im Kaiserreich 1871 - 1914. Paderborn, 2014. S. 210-245.
- Huber E.R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 2: Der Kampf um Einheit und Freiheit 1830 bis 1850. Stuttgart, 1960. S. 149, 755; Huber E.R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 3: Bismarck und das Reich. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1978. S. 47 f., 60 f., 1043-1048; Holmes C. A Tolerant Country? Immigrants, Refugees and Minorities in Britain. London; Boston, 1991. P. 106; Stein L. von. Zur preußischen Verfassungsfrage [1852]. Berlin, 2002; Blasius D. Einleitung: Carl Schmitt nach 1945 - Umwertungen und Wertschätzung eines politischen Juristen // Blasius D. Carl Schmitt und der 30. Januar 1933: Studien zu Carl Schmitt. Frankfurt am Main; Berlin, 2009. S. 11, 13.
- Boldt H. Der Ausnahmezustand in historischer Perspektive // Der Staat. 1967. Bd. 6. Ht. 4. S. 409-432; Caglioti D.L. Dealing with Enemy Aliens in WWI: Security Versus Civil Liberties and Property Rights // Italian Journal of Public Law. 2011. Vol. 3. No. 2. P. 181-183; Caglioti D.L. Aliens and Internal Enemies: Internment Practices, Economic Exclusion and Property Rights during the First World War. Introduction // Journal of Modern European History. 2014. Vol. 12. No. 4. P. 451; Neocleous M. Critique of Security. Edinburgh, 2008. S. 44-49.
- BadeK.J."Preußengänger"und"Abwehrpolitik".Ausländerbeschäftigung, Ausländerpolitik und Ausländerkontrolle auf dem Arbeitsmarkt in Preußen vor dem Erste Weltkrieg // Archiv für Sozialgeschichte. 1984. Bd. 24. S. 91-162; Bade K.J. Politik und Ökonomie der Ausländerbeschäftigung im preußischen Osten: Die Internationalisierung des Arbeitsmarkts im "Rahmen der preußischen Abwehrpolitik". Göttingen, 1980. S. 273-299; Reinecke C. Grenzen der Freizügigkeit: Migrationskontrolle in Großbritannien und Deutschland, 1880 -1930. München, 2010. S. 242.
- StibbeM. GermanAnglophobia and the Great War, 1914 - 1918. Cambridge; New York, 2001. P. 26; Nolan M.E. The Inverted Mirror: Mythologizing the Enemy in France and Germany, 1898 - 1914. New York; Oxford, 2005. P. 87, 95, 102; Reinecke C. Grenzen der Freizügigkeit: Migrationskontrolle in Großbritannien und Deutschland, 1880 - 1930. München, 2010. S. 386 f.
- Allport G.W. The Nature of Prejudice. Cambridge (MA), 1955. P. 14 f., 49; Conze E. Geschichte der Sicherheit. Entwicklung - Themen - Perspektiven. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2018. S. 156.
- Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914 - 1949. München, 2003. S. 41; Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1866 - 1918. Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. München, 1992. S. 786 f.; Deist W. Das Militär an der "Heimatfront" 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 // Erster Weltkrieg -Zweiter Weltkrieg. Ein Vergleich. Krieg, Kriegserlebnis, Kriegserfahrung in Deutschland. Paderborn, 2002. S. 376; Wurzer G. Die Kriegsgefangenen der Mittelmächte in Russland im Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2005. S. 415; Deutschland im Ersten Weltkrieg: Texte und Dokumente, 1914 - 1918. München, 1982. S. 16-19.
- Creutz M. Die Pressepolitik der kaiserlichen Regierung während des Ersten Weltkriegs: Die Exekutive, die Journalisten und der Teufelskreis der Berichterstattung. Frankfurt am Main; New York, 1996. S. 43, 49; Deflem M. Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation. Oxford, 2002. P. 112; Caglioti D.L. Subjects, Citizens and Aliens in a Time of Upheaval: Naturalizing and Denaturalizing in Europe during the First World War // Journal ofModern History. 2017. Vol. 89. No. 3. P. 502; Stibbe M. A Community at War: British Civilian Internees at the Ruhleben Camp in Germany, 1914 - 1918 // Uncovered Fields. Perspectives in First World War Studies. Leiden, 2004. P. 81; StibbeM. German Anglophobia and the Great War, 1914 - 1918. Cambridge; New York, 2001. P. 24.
- Bauman Z. Freiheit und Sicherheit. Die unvollendete Geschichte einer stürmischen Beziehung // Die neue Ordnung des Politischen: Die Herausforderungen der Demokratie am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main; New York, 1999. S. 23-34; Conze W. Sicherheit, Schutz // Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart, 1994. S. 831 f., 838-858; Knemeyer F.-L. Polizei // Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Bd. 4. Stuttgart, 1978. S. 889; Kaufmann F.-X. Sicherheit: Das Leitbild beherrschbarer Komplexität // Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe. Historische und aktuelle Diskurse. Frankfurt am Main, 2003. S. 104.
- Richter H. Demokratie. Eine deutsche Affäre: Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München, 2020. S. 186; Richter H. Aufbruch in die Moderne: Reform und Massenpolitisierung im Kaiserreich. Berlin, 2021. Противоположная точка зрения: Conze E. Schatten des Kaiserreichs: Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe. München, 2020. См. дискуссию: Metzler G. Eine deutsche Affäre? Notizen zur öffentlichen Geschichte II Public History Weekly. 2021. 15 Apr. URL: https:IIpublic-history-weekly.degruyter. comI9-2021-3Idemokratie-hedwig-richter-debatteI; Nonn С. 12 Tage und dein halbes Jahrhundert. Eine Geschichte des deutschen Kaiserreichs 1871 - 1918. München, 2020. S. 614-623. В основном новые дискуссии едва ли выходят за рамки дебатов 1970-х - 1980-х гг., которые особенно ярко отразились в дискуссии между Гансом-Ульрихм Велером и Томасом Ниппер-деем: Nolte P. Darstellungsweisen deutscher Geschichte. Erzählstrukturen und "master narratives" bei Nipperdey und Wehler II Die Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Göttingen, 2002. S. 236268.