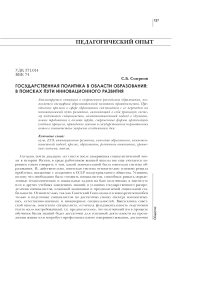Государственная политика в области образования: в поисках пути инновационного развития
Автор: Смирнов Сергей Борисович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Педагогический опыт
Статья в выпуске: 2 (11), 2009 года.
Бесплатный доступ
Анализируется ситуация в современном российском образовании, выявляется специфика образовательной политики правительства. Преодоление кризиса в сфере образования связывается с ее переходом на инновационный путь развития, включающий в себя уровневую систему подготовки специалистов, компетентностный подход в обучении, новые требования к оплате труда, современные формы организации учебного процесса, приведение законов и государственных нормативных актов в соответствие запросам сегодняшнего дня.
Вузы, егэ, инновационное развитие, качество образования, компетентностный подход, кризис, образование, рыночные отношения, уровневая система, школы
Короткий адрес: https://sciup.org/14031058
IDR: 14031058 | УДК: 371.014
Текст научной статьи Государственная политика в области образования: в поисках пути инновационного развития
Сегодня, почти двадцать лет спустя после завершения социалистической эпохи в истории России, в среде работников высшей школы все еще считается хорошим тоном говорить о том, какой замечательной была советская система образования. И, действительно, советская система относительно успешно решала проблемы, связанные с созданием в СССР индустриального общества. Успешно, потому что необходимо было готовить специалистов, способных решать определенные технологические и социальные задачи на базе полученных в институте или в других учебных заведениях знаний, в условиях государственного распределения специалистов, плановой экономики и предполагаемой социальной стабильности. Относительно, так как Советский Союз оказался конкурентоспособен только в подготовке специалистов по достаточно узкому спектру математических, естественно-научных и инженерных специальностей. Выпускника советской школы, советского специалиста, отличала фундаментальность подготовки (часто мало востребованная), т.к. предполагалось, что полученный им в процессе обучения багаж знаний будет достаточен для успешной деятельности на протяжении жизни или потребует профессионального совершенствования, достаточно
Общество
жестко привязанного к базовому образованию. Не способствовала повышению качества образования и его чрезмерная идеологизация. В современных условиях необходима трезвая оценка советского опыта в области образования. Кризис социалистической системы был во многом определен тем, что в целом успешно решив задачу быстрого создания индустриального общества, Советский Союз и созданная в нем система образования оказались неспособными решать проблемы постиндустриального развития.
Распад СССР и крушение социалистического строя привели к затяжному и системному кризису российского общества. В тяжелом положении оказалась и система образования. В тоже время ее развитие в 90-х гг. ХХ в. было достаточно противоречивым. С одной стороны, резко сократилось государственное финансирование, учителя и преподаватели получали мизерные зарплаты, которые к тому же выплачивались с постоянными задержками. Из системы образования уходили молодые и предприимчивые люди, востребованные за рубежом специалисты уезжали на Запад. Материально-техническая база образовательных учреждений ветшала и все более устаревала. Но, с другой стороны, школы, средние и высшие профессиональные учебные заведения получили невиданную ранее свободу творчества, возможность во многом самостоятельно строить образовательные программы, организовывать свою деятельность. В сферу образования стали проникать рыночные отношения, появилось платное обучение и в борьбе за потребителя, школы, ПТУ и институты стремились повысить свой статус. В стране появились многочисленные гимназии, лицеи, колледжи, академии университеты. Получил развитие негосударственный сектор системы образования. Количество студентов на тысячу человек населения в несколько раз превысило показатели последних лет существования СССР. Но при этом очевидным стало неуклонное падение качества образования на всех его уровнях. Государство пыталось решить проблему качества путем ужесточения контроля, введением образовательных стандартов и процедур аттестации и аккредитации, но в условиях постоянного недофинансирования даже самых насущных нужд учебных заведений и заработной платы это было в принципе невозможно.
Terra Humana
В результате к началу нового столетия в системе образования накопились противоречия, связанные как с сохранением советского наследия, так и с проблемами постсоветского периода. Если экономика страны перешла к рыночному регулированию, то в системе образования и, в первую очередь, в профессиональной школе, сохранился план приема, который, как в старые добрые времена формировался от достигнутого и совершенно не учитывал реальные потребности общества и экономики. При этом количество вузов, по сравнению с советским временем, не только не уменьшилось, а, напротив, резко возросло, особенно за счет негосударственных, а также роста сети филиалов. В условиях глубокого и затяжного социально-экономического кризиса произошло почти полное разрушение системы подготовки рабочих кадров и среднетехнического персонала. В средней школе и высших учебных заведениях возник очевидный перекос в сторону гуманитаризации образования, связанный как с объективными потребностями общества в новых исторических условиях, так и с кризисом, сделавшим невостребованными профессии, ранее необходимые промышленности и науке. В результате технические вузы продолжали выпускать инженеров для уже несуществующих предприятий и для применения давно устаревших технологий, а одновременно во всех высших учебных заведениях открывались факультеты, готовившие юристов, экономистов, менеджеров и по другим специальностям, воспринимаемых общественным мнением как «престижные». Для вузов развитие платного обучения и открытие непрофильных специальностей было фактически способом выжить в условиях мизерного государственного финансирования. Но из-за отсутствия достаточного числа квалифицированных кадров, способных обеспечить качественную подготовку по «модным» специальностям, речь часто шла о получении диплома, а не реального, соответствующего современным требованиям, высшего образования. На уровне средней школы погоня за гимназическим или иным особым статусом приводила к росту перегрузки учащихся при одновременном падении качества обучения, демографический кризис привел к резкому сокращению сети дошкольных учреждений. Одновременно, несмотря на все трудности, во многих вузах и школах шел активный творческий процесс, разрабатывались и обогащались новым содержанием образовательные программы, осваивались и создавались новые образовательные технологии, отрабатывались принципиально новые для России подходы к построению образования и контроля за его качеством (государственное тестирование, уровневое образование). Педагогическая общественность, как и общество в целом, активно обсуждали пути дальнейшего реформирования образования. Но в целом, несмотря на ряд позитивных тенденций, продолжало нарастать отставание от передовых национальных образовательных систем в материальном обеспечении, в содержании и организации обучения, старели кадры.
Приход к власти президента В.В. Путина сопровождался разработкой целого комплекса реформ, реализация которых должна была способствовать быстрой модернизации России в целях ее превращения в развитое и конкурентоспособное общество. Не случайно и программа дальнейшего реформирования системы образования получила наименование программы ее модернизации. Ее главной целью было провозглашено повышение качества образования для обеспечения инновационного развития страны. Накопленный за почти десятилетний срок опыт реализации намеченных тогда планов демонстрирует как сложность и масштабность поставленных задач, так и противоречивость политики, направленной на их решение.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура 2000–2008 гг. позволила государству значительно увеличить финансирование системы образования на всех ее уровнях. Межбюджетное размежевание привело к четкому разделению зон ответственности в области образования федеральных, региональных и муниципальных властей. Несомненное положительное влияние на развитие системы образования в последние годы оказал приоритетный национальный проект «Образование», который позволил укрепить материальную базу многих школ и вузов, материально и морально поддержать наиболее творчески и качественно работающих учителей. В высшей школе национальный проект предполагал разработку ведущими университетами страны инновационных образовательных программ, создающих условия для повышения качества обучения по наиболее важным для страны направлениям подготовки кадров. Однако рост финансирования делал все более острым вопрос об его эффективности. Важным шагом на пути решения этой проблемы стало введение конкурсных процедур при использовании государственных и внебюджетных средств, их применении при распределении государственных денег, направляемых на развитие инфраструктуры и науки. Несовершенство законодательной базы этих мероприятий снижает их эффективность, усложняет бюрократическое сопровождение, но в целом использование конкурсов способствует экономии финансовых ресурсов и снижает роль
Общество
субъективного фактора при их распределении. В том, что касается системы высшего образования, главной проблемой была и остается ее структура, которая не позволяет концентрировать и эффективно использовать имеющиеся финансовые возможности. Наступивший в конце 2008 г. кризис сделал эту проблему особенно очевидной. Обидной ошибкой государства было то, что оно не использовало благоприятные в финансовом отношении годы для решительного реформирования системы высшего образования. Впрочем, этот вывод можно распространить и на многие другие области государственной политики.
На сегодняшний день в стране свыше шестисот государственных высших учебных заведений, а с негосударственными образовательными учреждениями и филиалами вузов их более двух тысяч. В Москве около 200 вузов, в Петербурге – около 100. Почти во всех из них одинаковый набор востребованных рынком образования гуманитарных по преимуществу специальностей и направлений подготовки. Система высших технических учебных заведений по своей структуре осталась практически неизменной с 30-х гг. XX в., со времен первых пятилеток. Управление тогда строилось по отраслевому принципу, и каждое ведомство создавало свои вузы для подготовки узкопрофильных специалистов. Так, только в Ленинграде в 1930–1931 гг. было открыто более десяти таких институтов. Все они существуют по сей день и гордо именуются университетами. А в каждом из вузов свой ректорат, бухгалтерия, управления, деканы, сходные по профилю кафедры. Совершенно очевидно, что по количеству вузов российская система высшего образования избыточна и подобного расточительства нет ни в одной стране мира, многие из которых куда богаче России. Надо отметить, что вузах год от года растет понимание того, что долго так продолжаться не может, и система требует кардинальной оптимизации. В Петербурге, например, неоднократно разрабатывались проекты объединения ряда университетов, но на самой начальной стадии их обсуждение наталкивалось на корпоративные интересы тех вузов, которым грозило объединение. Их руководители защищали свой статус утверждениями об уникальности и неповторимости именно их учебного заведения. Многовековая практика реформ, в том числе и в России, показывает, что любая система не может быть реформирована изнутри, по инициативе составляющих ее консервативных элементов. Эффективную реформу может провести только активная и целеустремленная власть, опирающаяся на ту часть профессионального сообщества (пусть даже она и составляет его меньшинство), которая заинтересована в реформе. С этой точки зрения важно понять, какую реформаторскую политику проводило и проводит министерство образования и науки России.
Terra Humana
Руководитель министерства А.А. Фурсенко неоднократно повторял: «Мы никого закрывать не будем. Слабые умрут сами». Что это означает на практике? Год от года усложняются аккредитационные требования к вузам и уже в 2009 г. планируется еще большее их ужесточение. Как представляется руководителям Минобрнауки, результатом будет как сокращение общего числа вузов, так и утрата значительной их частью статуса университета или академии. Другим направлением давления на вузы был избран их перевод в автономные учреждения, лишение их статуса государственных учреждений. При этом, теоретически, перед вузом – автономным учреждением – открываются широкие возможности предпринимательской деятельности, кредитования, использования вверенного ему государственного имущества. Но и все риски, с этим связанные, автономное учреждение берет на себя. Кроме того, оно утрачивает значительную часть свобод, так как его руководитель будет избираться не ученым советом, а наблюдатель- ным, в котором преподаватели вуза будут составлять только одну треть. При этом практически исчезнет различие между государственными и негосударственными высшими учебными заведениями, так как они все в той или иной форме смогут претендовать на деньги государственного или иных бюджетов. Наконец, использование конкурсных процедур финансовой поддержки ведущих вузов и целевое финансирование ряда университетов, которые государство волевым порядком определило в качестве лидеров системы образования России, будет способствовать укреплению позиций «сильных» и вытеснению из системы «слабых».
Одной из целей введения ЕГЭ также является ограничение числа выпускников, имеющих право на поступление в вуз. На фоне тяжелой демографической ситуации это послужит еще одним средством усиления конкуренции в системе высшего образования. По мнению руководителей Минобрнауки, современный кризис, несмотря на всю его тяжесть, также будет способствовать ускорению структурной перестройки отрасли. Таким образом, суть структурной политики государства в системе высшего образования можно сформулировать следующим образом: создать условия для острой конкуренции при государственной поддержке лучших университетов. Целью является оптимизация системы, повышение эффективности использования государственных средств и, в конечном итоге, повышение качества образования.
С этой целью трудно не согласиться, но является ли избранный путь единственным? Ведь вузам России предлагается вступить в конкурентную борьбу, неизбежным результатом которой будет исчезновение, слияние, перепрофилирование, понижение в статусе большинства ныне существующих высших учебных заведений. Предполагается, что в стране останется несколько федеральных университетов, 10–15 исследовательских и, кроме того, 100–150 университетов, которым будет оказываться государственная поддержка. Остальные должны будут выживать сами. То есть, реформу предполагается провести, возложив всю ее тяжесть на плечи интеллектуальной элиты нации – профессорско-преподавательского состава вузов. При этом необходимо подчеркнуть, что условием попадания в группу университетов, которые будут пользоваться государственной поддержкой, является их переход в автономные учреждения. Следуя либеральной модели, государство стремиться свести к минимуму ответственность за судьбы высшего образования и ограничить свои функции выработкой образовательной политики, ее осуществлением через бюджет, сохранением за собой, по крайней мере, на ближайшее время, разрешительных и контрольных функций.
В условиях слабого гражданского общества, развитие которого государством, по меньшей мере, не поддерживается, а институт общественной экспертизы так и не вышел из зародышевого состояния, создаются все предпосылки для расцвета бюрократических методов в этой области. Ярчайшим примером здесь может служить деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и ее чиновников, знаменитых своей неподкупностью и объективностью. Как представляется, предлагаемый путь чреват не только потерей значительной части интеллектуального потенциала страны, но и опасными социально-политическими последствиями.
Есть ли другой путь? Да, и государство фактически пошло по нему, создавая южный и сибирский федеральный университеты через слияние нескольких местных университетов в Красноярском крае и Ростовской области. Одновременно этим новым крупным научно-образовательным центрам было выделено значительное дополнительное финансирование, позволяющее создать современную
Общество
университетскую инфраструктуру. Сегодня у государства денег гораздо меньше, но, как и вчера, нет политической воли взять на себя ответственность за реструктуризацию отрасли. Этот другой путь предполагает, что государство, с опорой на мнение референтного экспертного сообщества, а не руководителей вузов и лоббистов, возьмет на себя ответственность за поэтапное укрупнение вузов и закрытие части из них. Высвободившиеся ресурсы могли бы быть направлены на социальную защиту высвободившихся работников и развитие образовавшихся в результате объединения крупных университетских комплексов. Такие меры непопулярны, но разъясняя их неизбежность и последовательно осуществляя, можно решить эту проблему с неизбежными, но минимально возможными потерями. Кроме того, в связи с огромными размерами страны и неравномерностью развития регионов необходима целевая поддержка региональных образовательных центров. Ни в коем случае нельзя сосредотачивать систему образования в нескольких крупных университетских центрах. А сегодня действительность такова, что никто из работников системы высшего образования России не может быть сегодня уверен в завтрашнем дне.
Очевидно, что ключевой проблемой современного российского образования является его качество. И если положение в высшей школе отягощено структурными проблемами, то в общеобразовательной школе эта проблема носит несколько иной характер. Печальное положение в средней школе ярко демонстрируют результаты массовых международных педагогических измерений, таких как, например, «Пиза» в проведении которых Россия участвует все последние годы. Результаты наших школьников год от года становятся все хуже. В России эти системы измерений часто критикуют, но критики не видят главного: наша школа по-прежнему ориентирована на накопление знаний, тогда как в развитых странах уже давно возобладал компетентностный подход. Однако интересно, что в соответствии с показателями измерений в 2007 г. (а данные 2008 еще не опубликованы), российские дети показали лучшие в мире результаты по развитию речи при поступлении в школу, но чем старше возраст, тем результаты наших школьников все хуже и хуже. И, по единодушному мнению вузовских преподавателей, уровень подготовки абитуриентов год от года падает. Несомненно, что российская школа нуждается в кардинальном обновлении. Нельзя не отметить, что в последние годы в этом направлении сделан целый ряд шагов: улучшилась материальная база школ, они были обеспечены компьютерной техникой, во многих регионах произошел переход на подушевое финансирование и финансовую самостоятельность. В этом смысле в Петербурге, например, система общего образования продвинулась по рыночному пути развития куда дальше, чем высшие учебные заведения. Но социальное положение учителя, как и вузовского преподавателя, остается низким. По данным на весну 2009 г. из всех отраслей народного хозяйства образование по размеру средней заработной платы находится на втором месте снизу. Меньше зарабатывают только работники аграрного сектора. При этом в последние годы зарплата учителей росла (особенно в крупных городских центрах), что привело к смягчению остроты кадровой проблемы, но качество подготовки кадров по-прежнему остается ключевым вопросом.
Terra Humana
Сейчас идет активная работа по подготовке стандартов общего образования, которые будут построены на компетентностном подходе. Чтобы обеспечить их выполнение, учителям будет необходимо овладеть новыми технологиями организации обучения, новыми образовательными технологиями, по-иному взаимодействовать с учениками. Этого нельзя достичь без притока квалифицированных молодых кадров, а их не будет при сохранении низкого социального статуса педагогов. Примером того, как нужно решать эту проблему, может служить Финляндия, где в последние годы профессия учителя стала одной из самых престижных и хорошо оплачиваемых. Результат – высокое качество общего и высшего образования, превращение Финляндии в одного из лидеров инновационного развития. Важной проблемой является и то, что наши школы практически не ощущают общественного контроля, местные сообщества почти не влияют на их развитие, тогда как в развитых демократических обществах именно местные общины более всего помогают школам, но и строже всего спрашивают с них.
Если говорить просто, то современная школа должна научить учеников учиться, самостоятельно мыслить, работать в команде. Но решение этих задач пока плохо стыкуется с содержанием ЕГЭ, который с 2009 г. будет и основной формой аттестации выпускников, и главной формой отбора абитуриентов при поступлении в вузы. До кризиса одной из задач введения ЕГЭ было ограничение количества выпускников, которые будут иметь право поступления в вузы. Параллельно планировалось резко сократить государственное задание по приему в высшие учебные заведения. Предполагалось, что выпускники школ, лишенные права поступать в вузы, пойдут в начальные и средние профессиональные учебные заведения, так как развивающаяся экономика нуждалась в квалифицированных рабочих и среднем техническом персонале. Кризис и страх перед ростом безработицы заставил правительство отказаться от этой идеи. Было решено сохранить основные параметры государственного задания, значительно увеличить прием в магистратуру и аспирантуру.
Правда, это решение не коснулось планов подготовки юристов, экономистов и педагогов. А.А. Фурсенко несколько раз публично заявлял: «Подготовка юристов, экономистов и педагогов – это путь в никуда». Вот почему по этим направлениям сокращение приема в вузы все-таки будет. Видимо, в России уже построено правовое государство – и страна не нуждается в юристах, сформирована развитая рыночная экономика – и нет нужды в экономистах, а рождаемость в России, которая в последние годы наконец-то стала расти, снова пойдет на спад, и у нас в обозримом будущем не возникнет потребности в новых учителях.
Можно предположить, что следующим последствием введения ЕГЭ будет переход на подушевое финансирование системы высшего образования, когда деньги в вузы пойдут вслед за подавшим в него документы и зачисленным абитуриентом. В результате фактически исчезнет различие между государственными и негосударственными вузами. При этом очевидно, что всем высшим учебным заведениям нужно готовиться к значительному сокращению платного приема, что обусловлено демографическими проблемами, ограничениями, связанными с ЕГЭ, большим бюджетным приемом и влиянием кризиса. Так или иначе, но если требования к проведению и подведению итогов ЕГЭ будут соблюдены, то мы впервые (с учетом, конечно, ограниченных диагностических возможностей ЕГЭ), получим достаточно объективную картину положения дел как по отдельным предметам, так и по регионам, что может стать основой для более обоснованных решений по развитию российского образования.
Сложность положения российской системы образования в целом и высшего образования в особенности состоит в том, что в 2009 г. на ее развитие воздействует одновременно целый ряд факторов, сумма которых чрезвычайно затрудняет деятельность системы. Среди них есть как объективные, воздействие которых прогнозировалось (демографическая ситуация) или оказалось неожиданным
Общество
(экономический кризис), так и целый ряд субъективных, связанных с государственной политикой в области образования. При этом ситуацию осложняет то, что целый ряд изменений, пришедшихся на 2009 г., планировался в расчете на продолжение экономического роста. Это касается и ЕГЭ, и перехода на уровневое образование, на новую систему оплаты труда в вузах, и внедрения новых образовательных стандартов.
2009 г. – завершающий год перехода российского высшего образования на уровневую систему. Эксперимент по ее внедрению был начат еще в начале 90-х гг. XX в., и первопроходцами здесь были РУДН в Москве и РГПУ им. А.И. Герцена в Петербурге. Широкое внедрение бакалавриата и магистратуры началось после того, как Россия включилась в Болонский процесс, предполагающий выработку европейскими странами общих подходов к построению и оценке качества высшего образования. У Болонского процесса в России имеется много сторонников и еще больше критиков, но очевидно одно: если российское образование хочет быть конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг, то мы должны перейти на уровневую систему. Например, в РГПУ им. А.И. Герцена среди иностранных студентов пользуется большой популярностью целый ряд бакалаврских и магистерских программ и почти совсем не востребованы программы подготовки специалистов. Однако внутри страны идея уровневого образования осваивается с трудом. И главная проблема здесь в том, что российские вузы продолжают выполнять несвойственные университетам в большинстве стран мира общеобразовательные функции: учат всех студентов иностранным языкам, информатике, и многим другим предметам, которые в других странах изучаются в школе. Вот почему наши преподаватели недоумевают: как это можно подготовить квалифицированного инженера за четыре или даже за три года, но если убрать из наших учебных планов «школьные» предметы, то сколько семестров останется на собственно профессиональную подготовку?
Вот почему внедрение уровневой системы логично было бы связать с переходом на принятое во всех развитых странах двенадцатилетнее общее образование, которое позволяет школам выстроить эффективное профильное обучение, а вузам получить более взрослых, точнее – определившихся в выборе профессионального пути студентов. Разговоры о таком переходе шли последние десять лет, но так и остались разговорами. Поэтому даже при переходе на государственные стандарты третьего поколения вузам придется решать проблему подтягивания до университетских требований значительной части студентов первых курсов.
Terra Humana
Говоря об уровневой системе необходимо понимать, что она предполагает иную философию образования, чем доставшаяся нам еще от XIX в. линейная система обучения. Выступая в конце марта 2009 г. на съезде Союза ректоров России. ректор МГУ Садовничий сказал о том, что гумбольдтовская университетская модель образования умерла, а победу одержала англосаксонская, способная быстро адаптироваться к требованиям сегодняшнего дня. Теперь образование – услуга, а образованность – товар. Такое признание из уст человека, который много лет отстаивал ценности именно гумбольдтовской модели, когда-то заимствованной Россией у Германии и развивавшейся в СССР, многого стоит. Концепция уровневой подготовки специалистов основана на том, что в современном мире человек, как правило, не может сделать выбор узкой сферы профессиональной деятельности раз и навсегда, а знания устаревают так быстро, что требуется их постоянное обновление. Поэтому важно не только научить человека фундаментальным основаниям его профессии, но и вооружить его такими компетентностями, кото- рые позволят ему быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и при этом успешно реализовывать свой потенциал, добиваться успеха. Именно на создание условий для решения этих задач направлены новые государственные стандарты, по которым российской системе высшего образования предстоит начать работать в 2008–2009 учебном году.
Новые стандарты создавались под идеологию уровневого образования и поэтому значительно отличаются от старых. Дисциплинарный подход в них сохранен только частично, а основаны стандарты третьего поколения на компетентностном подходе. Это значительно увеличивает свободу каждого вуза, но и требует от него более высокой степени ответственности. Всем вузам и по каждому направлению подготовки нужно будет разработать собственные образовательные программы и их учебно-методическое обеспечение. И хотя Минобрнауки планирует провести конкурсы на создание примерных образовательных программ, они будут носить исключительно ориентирующий характер. Здесь важно понимать: работа над этими программами, их качество, а также качественное учебно-методическое сопровождение программ во многом определят будущее каждого вуза и вузовского преподавателя, так как этот вопрос тесно связан с проблемой перехода на новую систему оплаты труда, с тем, насколько эффективно будет работать эта система в каждом конкретном учебном заведении.
Введение в системе образования, как и в других сегментах социальной сферы, отраслевой системы оплаты труда имеет целью повышение эффективности использования финансовых ресурсов для достижения роста качества образования. Заработная плата руководства вузов привязана к средней заработной плате профессорско-преподавательского. Таким образом, это руководство должно быть заинтересовано в повышении зарплаты профессорско-преподавательского состава. Но как добиться, если еще учесть, что по итогам 2009 г. 30% зарплаты в вузе должно быть выплачено в виде стимулирующих надбавок?
В условиях неизбежного для большинства вузов сокращения числа студентов (и, в первую очередь, обучающихся за плату), такой цели можно достичь либо за счет быстрого развития дополнительного образования и других форм внебюджетной деятельности, прямо не связанных с предоставлением образовательных услуг, либо путем сокращения численности сотрудников, приоритетного стимулирования именно преподавателей. Но надо смотреть правде в глаза: в рамках заданных государством условий значительного роста зарплаты, выведения ее на уровень, достойный профессоров или доцентов, невозможно достичь без сокращения их численности. Очевидно, что если пойти по пути простого увеличения аудиторной нагрузки тех преподавателей, которые останутся работать, то ни о каком качестве образования не может быть и речи. Необходим переход к современным формам организации учебного процесса, значительное увеличение объема самостоятельной работы студентов и перенос центра тяжести работы преподавателя на управление этой работой.
Даже во многих ведущих западных университетах соотношение числа студентов и преподавателей выше, чем в большинстве российских, но организована жизнь университетов иначе. Поэтому мы оказываемся перед жизненной необходимостью внедрения кредитно-рейтинговой и модульной систем, изменения функций преподавателей. Но необходимо, чтобы и государство, поставившее вузы России в условия жесткого выбора дальнейшего пути развития (либо стагнация и умирание, если коллектив откажется от радикальных перемен, либо динамичное развитие на основе новых технологий управления образовательными програм-
Общество
мами), также привело законы и нормативные акты в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, отказавшись от норм времен Совета народных комисаров, когда труд преподавателей стал измеряться в часах.
Российской системе образования предстоят новые перемены. От правильности политики, избранной государством в этой области, во многом зависит будущее страны. Обеспечит ли она инновационное и демократическое стабильное развитие страны или отставание от передовых стран сделается необратимым, и долей россиян будущего станет снабжение других, более успешных, народов нефтью и газом, а, потом, может быть, водой и воздухом. (Если Россия тогда вообще будет существовать). Но чтобы государственная политика была максимально эффективной и социально справедливой, необходимо, чтобы она не была делом только чиновников, а постоянно подвергалась общественному обсуждению и экспертизе, тогда институты гражданского общества влияли бы на ее формирование. Последние два десятилетия показали, что у российской системы образования, которая является едва ли не важнейшей силой, скрепляющей страну, очень большой запас прочности. Хочется верить, что этого запаса и инновационных, направленных на обновление сил, хватит для того, чтобы снова сделать российское образование одним из лучших в мире.
Terra Humana