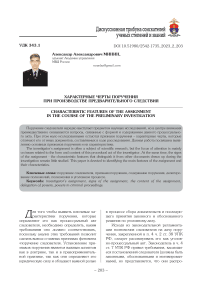Характерные черты поручения при производстве предварительного следствия
Автор: Минин А.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
Поручение следователя нередко выступает предметом научных исследований, но в центре внимания преимущественно оказываются вопросы, связанные с формой и содержанием данного процессуального акта. При этом мало исследованными остаются признаки поручения - характерные черты, которые отличают его от иных документов, составляемых в ходе расследования. Данная работа посвящена выявлению основных признаков поручения и их характеристике.
Поручение следователя, признаки поручения, содержание поручения, делегирование полномочий, полномочия в уголовном процессе
Короткий адрес: https://sciup.org/140301165
IDR: 140301165 | УДК: 343.10 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_203
Текст научной статьи Характерные черты поручения при производстве предварительного следствия
Для того чтобы выявить ключевые характеристики поручения, которые определяют его как процессуальный акт следователя, необходимо определить, каким требованиям оно должно соответствовать, поскольку анализ этих требований позволит сделать вывод о главных признаках феномена «поручение следователя. Установление признаков поручения является важным аспектом как в доктрине, так и в правоприменительной практике, так как они определяют его юридическую силу и обладают важной ролью в процессе сбора доказательств и последующего принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу.
Исходя из законодательной регламентации полномочия следователя на дачу поручения, закрепленной в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следует рассматривать его как уголовно-процессуальный акт. Законодатель в ч. 4 ст. 7 УПК РФ привел требования, касающиеся постановлений следователя (должны быть законными, обоснованными и мотивированными), но представляется, что они распро- страняются и на иные процессуальные акты указанного субъекта уголовного процесса.
Таким образом, одним из признаков поручения как уголовно-процессуального акта выступает его законность. Характеризуя рассматриваемый признак, А.В. Миликова отмечает: «Законность любого уголовно-процессуального акта органа предварительного следствия обусловлена его государственно-властным характером и способностью оказывать регулятивное воздействие на возникновение, изменение или прекращение правоотношений либо состояний, существующих в контексте особого назначения уголовного судопроизводства» [4, с. 92].
Полагаем, что законность как признак поручения предполагает двоякое толкование – понимание процессуальной формы в широком и узком смысле. В первом случае речь идет обо всей совокупности процедурных требований, которые предъявляются к порядку вынесения процессуального акта. К их числу относятся следующие: вынесение исключительно уполномоченным субъектом в пределах его компетенции, наличие законных оснований, соблюдение юридической процедуры вынесения, соблюдение требований к оформлению [9, с. 74]. Перечисленные требования являются общими, в то время как нельзя обойти вниманием тот факт, что многообразие процессуальных актов в уголовном судопроизводстве диктует и возможность определения признака законности применительно к отдельным актам с учетом различных условий. Прежде всего следует обратить внимание на степень формализации процессуальных актов, поскольку к некоторым из них применяются жесткие правила их вынесения, а в отношении других предусмотрена значительная свобода, предоставленная субъекту вынесения акта [8, с. 97].
Анализ процессуальной регламентации поручения следователя позволяет утверждать, что законодательно не установлено каких-либо жестких требований, предъявляемых при его вынесении. Фактически регламентировано лишь, что поручение долж- но быть составлено в письменной форме, может быть дано органу дознания, а также определено, что именно может быть поручено, – проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство отдельных следственных действий, исполнение постановлений о задержании, приводе, об аресте, производство иных процессуальных действий, а также оговорена возможность получать содействие при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Также закон определяет право следователя давать поручения органу дознания, следователю произвести следственные или розыскные действия в другом месте (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Нарушение любого из этих требований может повлечь за собой признание поручения незаконным, а соответственно, и производство на основании него следственных и иных процессуальных действий также незаконным. В пример можно привести решение суда о признании незаконным производство обыска в жилище. Аргументируя принятое решение, суд в том числе указал, что не были представлены данные, свидетельствующие о наличии письменного поручения следователя органу дознания о производстве обыска, в то время как по смыслу ст. 38 УПК РФ орган дознания должен проводить следственные действия по делу, находящемуся в производстве следователя, только по письменному поручению1.
Следующим признаком процессуального акта исследователи признают обоснованность. По мнению А.В. Миликовой, обоснованность представляет собой «соответствие содержащихся в уголовно-процессуальном акте выводов и утверждений предварительно установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела» [4, с. 95]. В пример исследователем приводится обоснованность постановления о признании потерпевшим, обусловленная наличием сведений о причинении лицу вреда преступлением, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, заключающаяся в наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления.
Как справедливо отмечено П.Г. Марфи-циным, в ряде случаев законодательно рамки дозволенного поведения следователя не установлены, в связи с чем определяющим будет выступать мнение следователя, его внутреннее убеждение, не нуждающееся в каких-либо пояснениях [3, с. 538-539]. Изложенное в полной мере касается поручения следователя, поэтому соответствие его рассматриваемому требованию должно определяться в каждом случае индивидуально, в зависимости от сложившейся ситуации расследования.
Анализ обоснованности как признака уголовно-процессуального акта позволяет утверждать о его тесной взаимосвязи с законностью, вследствие чего сложно отделить данные критерии друг от друга и определить, какой именно признак был нарушен, поэтому зачастую в решениях судов о признании недопустимым доказательством тех или иных результатов следственных действий используется совокупная формулировка «является незаконным и необоснованным».
В то же время видится верной точка зрения А.В. Миликовой о том, что отождествление законности и обоснованности недопустимо, это разные правовые категории, поскольку законность является формальным требованием, обусловленным необходимостью правильного применения правовых положений, а обоснованность лишена формального характера и является результатом мыслительно-логических операций, итогом умственной деятельности следователя [4, с. 99]. Действительно, уголовно-процессуальный акт, формально законный, может быть недостаточно обоснован, и наоборот, обоснованный акт может не соответствовать требованиям законодательства. К примеру, если следователем поручено производство допроса подозреваемого органу дознания, поручение в таком случае будет законным, поскольку формально закон не запрещает поручать производство данного следственного действия органу дознания. Однако вряд ли можно признать его обоснованным, поскольку и с процессуальной, и с тактической точек зрения более целесообразно производство данного следственного действия непосред- ственно лицом, осуществляющим расследования, поскольку именно оно в полной мере обладает сведениями об обстоятельствах уголовного дела.
Пример негативных последствий необоснованного поручения следователем производства тех следственных действий, которые целесообразно производить самостоятельно, приводят Т.А. Паутова и С.В. Верхотурова. При расследовании уголовного дела по факту покушения на кражу транспортного средства в ночное время возле гаражей, на воротах которых были спилены замки, были задержаны трое лиц – Р., И. и Т. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователем принято решение о возбуждении уголовного дела и дано поручение сотрудникам органа дознания допросить задержанных. Допрос указанных лиц произведен сотрудниками органа дознания не в качестве подозреваемых, а в качестве свидетелей, с предупреждением об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Вследствие допущенных нарушений дело утратило судебную перспективу [7, с. 104].
Проблема обоснованности поручений, выносимых следователями по уголовным делам, в настоящее время стоит достаточно остро. По мнению сотрудников органов дознания, лица, производящие расследование, злоупотребляют своим правом поручать производство любых следственных и процессуальных действий, активно делегируя свои обязанности расследования органу дознания. В наибольшей степени в данном случае «страдают» оперуполномоченные уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, а также участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Именно им направляются для исполнения поручения следователей о производстве различных следственных действий, преимущественно о производстве допросов свидетелей, выемок, обысков, отдельных видов осмотра.
Опыт работы автора в правоохранительных органах свидетельствует об актуальности данной проблемы, однако нельзя не обратить внимание и на ее основную причину, заключающуюся в высокой загруженности следователей и бюрократизации процесса расследования. Одновременно в производстве у одного сотрудника следственного органа могут находиться десятки уголовных дел, а если он специализируется на расследовании неочевидных преступлений, то и сотни. При такой нагрузке производить самостоятельно качественное расследование каждого из них в ограниченные законом сроки невозможно физически. Даже вынесение поручения по каждому уголовному делу требует существенных временных затрат, а нередко к качеству расследования предъявляются завышенные требования со стороны органов прокуратуры. Примерами может выступать отмена постановления о приостановлении расследования на основании необходимости допроса на предмет причастности к краже всех лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и проживающих на территории района1, допроса лиц, злоупотребляющих спиртными напитками2, и т.д.
Подобный формализм в расследовании, заключающийся по принципу «чем больше, тем лучше», приводит к вынесению следователями поручений, формально обоснованных, но фактически влекущих и рост нагрузки на сотрудников органов дознания. А.В. Миликова предлагает комплексно подойти к решению данных проблем, приняв следующие меры:
– внести изменения в законодательство, нацеленные на снижение числа ограничений самостоятельности следователя в принятии определенных решений;
– реформировать кадровую политику в сфере формирования следственных подразделений;
– освободить следователей от необходимости составлять многочисленные служебные документы не только в силу требований УПК РФ, но и в силу сложившихся традиций, причем существенно различающихся в отдельных районах [4, с. 99].
Таким образом, поручение следователя должно быть обоснованным. Данное требование в настоящее время законодательно не закреплено, но нами приведены аргументы о необходимости закрепления оснований, условий, при которых допускается направление поручения, в настоящее время на них обращают внимание многие исследователи, поэтому полагаем, что в качестве одного из признаков поручения следует рассматривать его обоснованность.
Следующим признаком уголовно-процессуальных актов является мотивированность, данное требование предполагает наличие в каждом соответствующем документе так называемой описательно-мотивировочной части, представляющей последовательное изложение мотивов и выводов, обусловливающих принятие решения. Данное требование заключается в том, что требуется обосновывать в письменной форме принятие определенного процессуального решения [10, с. 107].
С точки зрения И.С. Дикарева, в качестве законных можно рассматривать только такие уголовно-процессуальные решения, вынесение которых опирается на установленные законом основания, при этом требуется мотивировать их – подтвердить наличие оснований для принятия соответствующего процессуального решения [2, с. 21].
Применяя рассматриваемый признак к поручению, следует отметить, что закон не предусматривает никаких требований к его мотивированности. Фактически обоснование направления следователем поручений в орган дознания сводится к указанию на право следователя давать поручение о производстве следственных и иных действий. В то же время многие следователи, добросовестно относящиеся к составлению текста поручения, приводят в них аргументацию, которая, однако, касается не столько мотивировки дачи поручения, сколько необходимости выполнить те следственные или иные действия, которые выступают в качестве предмета по- ручения. К примеру, поручая произвести допрос конкретного свидетеля, указывают, какая информация об интересующих следствие обстоятельствах может быть ему известна. Но нередко сотрудники следственных органов, пользуясь отсутствием законодательных требований мотивировать производство порученных действий, ограничиваются фразой «для установления обстоятельств совершенного преступления», не указывают предмет поручаемого допроса и т.д.
Полагаем, что в силу отнесения поручения к процессуальным актам к нему должно предъявляться требование о мотивированности, которое надлежит рассматривать в двух аспектах:
– следует мотивировать необходимость производства тех следственных и иных действий, которые указываются в поручении, что будет способствовать более четкому уяснению органами дознания подлежащей решению задачи и осознания ответственности за надлежащее исполнение поручений;
– должна приводиться мотивировка, в силу которой следователь не производит поручаемое следственное или иное действие самостоятельно.
Перечисленные признаки (законность, обоснованность, мотивированность), как уже отмечалось, закреплены нормативно. Но в научной литературе можно найти более широкие подходы к определению признаков процессуальных актов. В частности, П.А. Лупинская в качестве такого называется целесообразность, под которой она понимает выбор наиболее целесообразного из всех возможных решений для претворения в жизнь уголовно-процессуальных предписаний, чем будет обеспечено более точное и полное достижение цели уголовного судопроизводства [3, с. 202]. Фактически говоря об этом же признаке, Н.Н. Апостолова именует его дискреционностью и отмечает, что сущность его заключается в предоставленной законом возможности выбирать наиболее целесообразную для определенного случая форму осуществления уголовно-процессуальной деятельности «для эффективного достижения целей и решения задач уголовного судопроизводства» [1, с. 23].
Полагаем, что указанные требования могут рассматриваться как единый признак поручения, поскольку, действительно, выносить его следует лишь тогда, когда это, во-первых, целесообразно (например, в целях экономии времени, ресурсов), а во-вторых, когда данное решение будет эффективным – позволит достичь целей расследования. Если имеются какие-либо сомнения в эффективности реализации поручения (к примеру, следователь допускает, что сотрудники органа дознания не смогут в полной мере получить все те сведения, которым обладает свидетель об обстоятельствах события преступления, поскольку не будут иметь возможности предъявить имеющиеся доказательства по делу или в силу иных причин), то вынесение его будет нецелесообразным.
Некоторыми исследователями предлагается рассматривать в качестве признака уголовно-процессуального акта его своевременность. Н.Г. Муратова характеризует его не столько как необходимость срочного составления определенного уголовно-процессуального акта, сколько как совокупность содержательности, процессуального оформления и срочности, то есть как определение оптимального и наиболее удачного момента для вынесения процессуального акта в соответствии со складывающейся по делу ситуацией и общей стратегией расследования [6, с. 66].
Применительно к поручению, по нашему мнению, такой признак, как своевременность, имеет важное значение, будучи тесно взаимосвязанным с остальными. К примеру, в случае необходимости одновременного производства значительного числа следственных действий на первоначальном этапе расследования, поручение некоторых из них органу расследования будет целесообразным и своевременным, в то время как, если необходимость произвести следственное действие возникнет позднее, более эффективным будет его проведение непосредственно самим следователем.
Кроме того, с нашей точки зрения, поручение должно быть конкретизированным, содержать четкое указание на то, какие именно действия должны быть произведены. Данное требование законодательно не закреплено, но вытекает из анализа положений УПК РФ и выработано в правоприменительной практике.
К сожалению, до настоящего времени допускаются случаи направления формальных поручений, не содержащих необходимых данных об обстоятельствах преступления, иной информации, известной органу расследования, что обусловлено, как уже отмечалось, отсутствием четких требований к содержанию поручения. Например, по уголовному делу по факту хищения драгоценных украшений из квартиры Д. следователь направил поручение в орган дознания на производство оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества, при этом описания похищенного не привел, имеющихся фотоснимков драгоценностей не приложил. Отсутствие данных о том, какие именно изделия подлежали обнаружению, привело и к получению на поручение формального ответа о том, что обнаружить похищенное не представилось возможным1.
Имеются и примеры направления в орган дознания поручений, исполнение которых нереально, к примеру, когда следователь просит «отработать на причастность к совершению преступления всех несовершеннолетних». Таким образом, в качестве признака поручения должна рассматриваться его содержательность и конкретизированность.
С требованием о конкретизации и содержательности поручения тесно связаны пределы поручения и его исполнения. В данном случае речь идет о том, что в зависимости от содержания поручения определяется, что именно следователь вправе поручить органу дознания, а последний – исполнить.
В частности, следователь не вправе осуществлять вмешательство в оперативно-ро- зыскную деятельность, соответственно, если поручается производство оперативно-розыскных мероприятий, должно быть указано лишь на необходимость их производства, а также цель, которая должна быть достигнута. К примеру, следователь может поручить таковые мероприятия для установления места нахождения похищенного имущества, но не вправе указать, какие именно мероприятия для этого должны провести оперативные сотрудники, являющиеся исполнителями.
В том случае, когда поручается производство следственных или иных процессуальных действий, напротив, должно быть четко указано, что именно должно быть произведено, поскольку орган дознания не вправе выходить за рамки поручения. К примеру, если следователь поручает произвести выемку определенных предметов или документов у конкретного лица, в определенном помещении, при невозможности исполнения поручения (по причине того, что искомое в указанном месте отсутствует) орган дознания не вправе на основании данного поручения произвести на указанном объекте обыск, как и выемку в другом месте. Таким образом, в качестве признака поручения следует рассматривать его ограниченный характер, определяемый пределами поручаемых действий [подр.: 5, с. 188-189].
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: поручению присущи определенные признаки, определяющие его специфику, к числу которых относится: законность; обоснованность; мотивированность; целесообразность и эффективность; своевременность; содержательность и конкретизированность; ограниченный характер, определяемый пределами поручаемых действий. Каждый признак имеет свою значимость и при правильной реализации института поручений можно значительно повысить их эффективность и улучить качество полученных результатов.
Список литературы Характерные черты поручения при производстве предварительного следствия
- Апостолова, Н.Н. Дискреционность в уголовном судопроизводстве России: монография / Н. Н. Апостолова. - Ростов-на-Дону: РостИздат, 2009. - 354 с.
- Кругликов, А.П. Принципы уголовного процесса Российской Федерации: учебное пособие / А.П. Кругликов, И.С. Дикарев, И.А. Бирюкова; под ред. А.П. Кругликова. - Волгоград: ВолГУ, 2007. - 191 с.
- Лупинская, П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика / П. А. Лупинская. - 2-е изд. - Москва: Норма: Инфра-М, 2010. - 238 с.
- Миликова, А.В. Уголовно-процессуальные акты органов предварительного следствия: дис. … канд. юрид. наук / А.В. Миликова - Волгоград, 2019. - 215 с.
- Минин, А.А. Признаки поручения следователя в уголовном судопроизводстве / А.А. Минин // Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств: проблемы и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2 декабря 2022 года. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2022. - С. 185-189.
- Муратова, Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики / Н.Г. Муратова. - Казань: Казанский госуниверситет имени. В. И. Ульянова-Ленина, 2004. - 345 с.
- Паутова, Т.А. Вопрос правовой регламентации поручений следователя, дознавателя в уголовном судопроизводстве / Т.А. Паутова, С.В. Верхотурова // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2018. - N 2 (44). - С. 101-107.
- Россинский, С.Б. Сущность уголовно-процессуальных актов: дискуссия продолжается / С.Б. Россинский // Уголовно-процессуальные акты в контексте современных проблем уголовного судопроизводства: сборник научных трудов по итогам всероссийского круглого стола / под ред. И.С. Дикарева, Н.А. Соловьевой. - Волгоград: ВолГУ, 2019. - С. 90-98.
- Россинский, С.Б. Уголовный процесс: учебник / С. Б. Россинский. - М.: Эксмо, 2009. - 735 с.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. П.А. Лупинской, Л.А. Воскобитовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 1008 с.