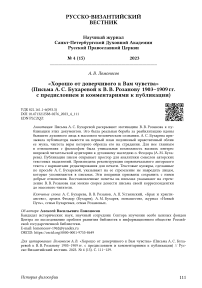«Хорошо от доверчивого к вам чувства» (письма А. С. Бухаревой к В. В. Розанову 1903-1909 гг. с предисловием и комментариями к публикации)
Автор: Ломоносов А.В.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (15), 2023 года.
Бесплатный доступ
Письма А. С. Бухаревой раскрывают мотивацию В. В. Розанова к публикации этих документов. Это была реальная борьба за реабилитацию вдовы бывшего духовного лица в массовом человеческом сознании. А. С. Бухарева призывала публикатора вывести на первый план подлинный нравственный облик ее мужа, чистота веры которого обрекла его на страдания. Для нее главным в отношениях с философом была уникальная возможность вызвать интерес широкой читательской аудитории к духовному наследию о. Феодора (А. М. Бухарева). Публикация писем открывает простор для аналитики смыслов авторских текстовых выделений. Произведена реконструкция первоначального авторского текста с вариантами редактирования для печати. Текстовые купюры, сделанные по просьбе А. С. Бухаревой, указывают на ее стремление не навредить лицам, которые упоминаются в письмах. Эти поправки призваны сохранить с ними добрые отношения. Восстановленные пометы на письмах указывают на стремление В. В. Розанова как можно скорее донести письма своей корреспондентки до массового читателя.
А. с. бухарева, в. в. розанов, а. п. устьинский, «брак и христианство», архим. феодор (бухарев), а. м. бухарев, монашество, журнал «новый путь», семья бухаревых, семья розановых
Короткий адрес: https://sciup.org/140301572
IDR: 140301572 | УДК: 821.161.1-6(093.3) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_4_111
Текст научной статьи «Хорошо от доверчивого к вам чувства» (письма А. С. Бухаревой к В. В. Розанову 1903-1909 гг. с предисловием и комментариями к публикации)
About the аuthor: Alexey Vasilyevich Lomonosov
Candidate of Historical Sciences, researcher at the Sector for the Study of Especially Valuable Collections of the Center for Research on Problems of Library Development in the Information Society of the Russian State Library.
-
В. В. Розанов был на рубеже ХIX–XX вв. одним из крупнейших пропагандистов творческого наследия о. Феодора (Бухарева) — это устоявшийся факт в научной литературе. Отстаивая это светлое имя в противостоянии с В. И. Аскоченским, Василий Васильевич привел в качестве свидетельства четыре письма вдовы покойного мыслителя. Но полный текст интереснейших писем А. С. Бухаревой до настоящего времени так и не был опубликован.
Истории общения В. В. Розанова и А. С. Бухаревой исследователи касались, но специальной задачи реконструкции их взаимоотношений на основе писем не ставилось.
-
В. А. Фатеев в числе первых среди современных исследователей подчеркнул, что именно В. В. Розанову, после знакомства с А. П. Устьинским, удалось открыть для широкой читательской аудитории преданное забвению учение о. Феодора. Он же первым обратил внимание на то, что, несмотря на это, «подлинно христианские идеи [о. Феодора] так и не стали для Розанова настоящим личным открытием»1. К сожалению, в замечательных биографических работах В. А. Фатеева о В. В. Розанове не нашлось места для упоминания об А. С. Бухаревой. Но в его энциклопедических статьях об А. М. Бухареве присутствуют необходимые биографические сведения и оценка роли вдовы мыслителя, которая в сотрудничестве с В. В. Розановым смогла добиться воссоздания среди людей ХХ в. образа архим. Феодора как человека с чистой и пламенной верой2.
Значительность влияния А. П. Устьинского на В. В. Розанова рассмотрел и М. С. Дроздов, особо подчеркнув признание философа, что «благодаря таким священникам, как У<стьинский>, он вернулся в конце 1911 <г.> к православной Церкви»3.
И. В. Воронцова, кроме разбора нюансов «естественно-научной апологетики» о. Феодора4, уделила достаточное внимание работе, проделанной прот. А. П. Устьинским для привлечения внимания В. В. Розанова к духовному наследию архимандрита, дав конкретизацию развития их отношений и детализировав ссылки на архивные источники. Она же явилась инициатором публикации большой части эпистолярного наследия прот. о. Александра Устьинского, чьи письма хранятся в фонде В. В. Розанова (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 1–13). Опираясь на документальные материалы, И. В. Воронцова подтвердила, что именно о. «Устьинский настоял на изучении В. Розановым творческого наследия Феодора Бухарева»,5 «считая его предтечей „нового религиозного сознания“»6.
В письме В. В. Розанову от 13 августа 1918 г. священник выказал горячую радость по поводу желания о. Павла Флоренского заняться написанием биографии А. М. Бухарева7 . Как известно, архив о. Феодора был передан его вдовой редактору
«Богословского вестника» свящ. Павлу Флоренскому. Он с 1913 г. регулярно публиковал исследования и материалы о покойном богослове.
Знакомство Анны Сергеевны (в девичестве Родышевской; 1840–1922) с о. Феодором (Бухаревым) произошло в 1862 г. по инициативе ее отца, помещика и предводителя дворянства Переславля-Залесского. Архимандрит тогда служил в Переславском Никитском монастыре и, по задумке родителя девушки, должен был отвлечь ее от бунтарских настроений шестидесятников. 16 августа 1863 г., когда А. М. Бухарев уже сложил с себя монашеское звание и священство, Анна Сергеевна стала его супругой. Примечательно, как он представил жену о. Александру Лебедеву спустя полторы недели после венчания: «…это моя избранная, представительница, или живой образ, для меня Святой Церкви Христовой по благодати брака, если то Богу будет угодно»8.
Анне Сергеевне во многом действительно удалось оправдать высокую миссию, возложенную на нее известным богословом, и стать сторонницей его идей и надежной помощницей в совместном несении жизненных тягот. Материальное положение семьи было крайне тяжелым. По причине неприятия произошедшего брака родными А. С. Бухаревой Александр Матвеевич потребовал, чтобы она отказалась от принадлежавшего ей поместья. Широкая и церковная печать были полностью закрыты для опального мыслителя. После кончины супруга Анна Сергеевна не покладая рук стремилась донести его идеи до современников.
Интересно обратить внимание на то, как В. В. Розанов впервые познакомил своих читателей с личностью о. Феодора. Мыслитель поместил в периодике подборку писем своего корреспондента, прот. А. П. Устьинского. Это была нашумевшая в свое время статья «Брак и христианство (Моя переписка с православным священником)»9. Затем он перепечатал эту статью в двух изданиях книги «В мире неясного и нерешенного» (СПб.: Тип. М. Меркушева, 1901 и 1904 (переиздание). С. 119–127), сопроводив письма о. Устьинского обширнейшими комментариями по поводу поднятой темы борьбы с монашеским аскетизмом. А. С. Бухарева просила через Устьинского, чтобы автор выслал ей второе издание10.
Оригинал письма священнослужителя об о. Феодоре, к сожалению, не сохранился. Вероятнее всего, он остался в одной из редакций или типографий.
Сверив опубликованное письмо о. Устьинского с юбилейной статьей Розанова «Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей)» (Новое время. 1911. 22 апр. № 12610), можно понять, что свет она увидела благодаря напоминанию о подошедшей круглой дате в письме протоиерея от 5 марта 1911 г. В следующей корреспонденции от 18 апреля А. П. Устьинский вновь вернулся к этому сюжету: «Исполняю Ваше желание. 2-го числа текущего Апреля месяца исполнилось сорок лет со дня смерти Архимандрита Феодора Бухарева. Он скончался 2 Апр. 1871 г. <…> Вы прекрасно сделали бы, если бы помянули его добрым словом в печати. Теперь пора высказать, что все, что говорил покойный Бухарев, совершенная истина. <…> его огромная заслуга состоит в том, что он всю область бытия и человеческой жизни и деятельности подвел под единый покров религии. Его достойная супруга, Анна Сергеевна, и доселе здравствует, проживая в городе Переяславле, Владимирской губ., и сохраняя благоговейную память к имени и к делу своего покойного мужа»11. Начало газетной заметки Розанова текстуально почти совпадает с приведенными строками письма. Далее Василий Васильевич вновь обратился к тексту первого письма Устьинского о Бухареве (1898 г.) и, выделив его петитом в кавычках, воспроизвел вновь, изредка вторгаясь в авторский текст. Если при первых публикациях в газете С. Ф. Шарапова «Русский труд» и в книге при указании на место и факт проживания Анны Сергеевны еще присутствовало слово сомнения («кажется»), то на этот раз оно исчезает.
Гораздо интереснее, какие замены слов, передаваемых от лица Устьинского, появились в последней редакции 1911 г. его воспроизводимого письма. После редактирования текста письма Розановым можно отметить значительное смягчение позиции автора в отношении монашества: от непримиримости рубежа XIX–XX столетий к поискам попытки примирения с Церковью. Спустя 13 лет после первого представления публике личности о. Феодора через посредство строк письма А. Устьинского, Розанов отмечал, что «монашество само теперь глубоко меняется <…> оно есть не суровая борьба с миром , но тихая молитва о мире же , но в стороне от мира, для тишины, для „лучше“ в молитве». И все это произошло благодаря о. Феодору, который «послужил этому, даже до страдания»12.
Розанов пытался донести до читателя главную идею исследований о. Феодора, которая состояла в необходимости осознания существующей благодати Христовой во всех проявлениях человеческого бытия. Текст письма А. П. Устьинского претерпевает существенные изменения. «Жестокий, подавляющий режим Филарета»13 преобразился в 1911 г. в безличный «сухой и неподатливый служебный формализм»14. Упавшим в землю и забытым всеми «зерном», принесшим впоследствии обильный духовный плод современного «пророческого» направления русской «мысли» (вместо: «публицистики») был уже не «Бухарев», а «архим. Феодор».
Незначительно, но все же претерпела изменения и фраза «…снятием с себя монашества и вступлением в законный брак — сбив с позиции монополию монашества на спасение». Она приобрела такой вид: «…сняв с себя монашество и вступив в законный брак, он сбивал монашескую монополию на путь спасения только в безбрачии ». Но если раньше это было названо всего лишь «поведением», то теперь стало всей его «жизнью».
Подобная редактура чужих текстов была для Розанова обычной практикой, как это можно проследить по приводимым ниже письмам А. С. Бухаревой.
На втором письме А. С. Бухаревой сохранилась помета В. В. Розанова, свидетельствующая о его замысле дать первую публикацию писем в своей авторской рубрике «В своем углу» журнала «Новый путь» в 1904 г.: «„Угол“ мой на этот раз так загроможден неотлагательным матерьялом, что я должен воздержаться до следующего номера от маленькой полемики с г. г. Л. Тихомировым (в „Моск<овских> Вед<омостях>“), о. Михаилом (в „Церковн<ом> Вестнике“) и от. И. Филевским, — с разных сторон напавших на меня»15 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4195. Ед. хр. 1. Л. 5). Материалы об упомянутых лицах были размещены в «Новом пути» в следующем порядке: 1. «Из писем другов и недругов» (№ 2. С. 142–152); «Из переписки свящ. И. Филевского» (№ 4. С. 116–134); «Из переписки с N. N.» (№ 6. С. 172–191). Выступления прот. И. И. Филевского Розанов рассматривал как единое направление церковной мысли по вопросам семьи и брака и призывал священнослужителя к продолжению публичной дискуссии. Протоиерей предлагал сначала определиться в отношении терминологии обсуждаемых позиций. Отцу Михаилу (Семенову) В. В. Розанов возражал в сентябрьском «По поводу доклада о. Михаила о браке (Извлечение из записки В. В. Розанова)» (Новый путь. 1903. № 9), обвиняя последнего в превознесении обрядовой стороны над духовной в брачном вопросе. О Л. А. Тихомирове, вероятнее всего, В. В. Розанов хотел писать относительно мнения публициста в отношении церковных Поместных соборов (См.: Розанов В. О поместных соборах в России // Новое время. 1903. 27 нояб. № 9962).
Можно посетовать, что письма ревностной хранительницы духовного наследия А. М. Бухарева не увидели свет в «Новом пути». Но, с другой стороны, покойный вряд ли одобрил бы неоязыческий крен издания, хотя и призывал не забывать о духе человеколюбия Христова в отношении язычников. Об этом свидетельствовали современники журнала, например, архим. Александр (Григорьев), доказывавший реальную пользу переиздания произведений архим. Феодора, «когда явились „новопутейцы“ с своеобразными приемами богословствования»16.
Помимо отмеченной притягательности идей А. М. Бухарева, для В. В. Розанова немаловажную роль играли пережитые семейные потери. Семье А. М. Бухарева пришлось пережить кончину одиннадцатимесячной дочери Сашеньки. Розановы также потеряли десятимесячного первенца, дочь. Известна надпись на фото Василия Васильевича с ней: «Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года. <…> Заповеди ей же:
«1. Помни мать.
-
2. Поминай в молитвах отца и мать.
-
3. Никого не обижай словом и паче делом.
-
4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя агукать и подавать ручки.
-
5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловали тебя.
-
6. Береги свое здоровье.
-
7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого.
-
8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.
-
<…> Это написал тебе на память, если буду жив или умру»17.
Наставления мыслителя во многом перекликаются с заповедями А. М. Бухарева жене о главных принципах воспитания их дочери, которая также не дожила до года. В первую очередь заповедуется молитвенная память о родных и близких, непременная любовь к ближним, без насильственного погружения в какие-либо абстракции. Вот что писала об этом вдова бывшего архимандрита В. В. Розанову: «Александр Матвеевич <…> говорил нередко со мной о том, как я должна ее воспитывать. Он говорил мне: „Вот ты любишь книги, склад характера у тебя мечтательный, а она, возможно, будет не такая, со складом более практическим, или будет любить веселье, удовольствия, танцы. Так ты смотри: не ломай ее. Научи ее любить Бога, людей, но не ломай, ради Бога, не ломай. <…> Давай свободно развиваться тому, что заложено в ее приро-де»18 . Розанов опубликовал эти наставления в своей книге «Около церковных стен» (изд. 1906 г. С. 44). Свящ. П. А. Флоренский также подчеркивал, что А. М. Бухарев смог научить жену жить всей полнотой своей жизни.
В заключение следует отметить, что частичный разбор проблем, поднимавшихся в письмах А. С. Бухаревой к В. В. Розанову, приоткрывает завесу истинных причин освещения или умолчания отношений корреспондентки со своими родными, знакомыми и самим В. В. Розановым. Выяснена позиция философа, мотивировавшая его на публикацию писем вдовы покойного христианского подвижника наравне с полемическими текстами своих оппонентов. В. В. Розанов стремился реабилитировать высокие нравственные отношения в семейном союзе Бухаревых. Отказываясь до последнего момента публиковать свои воспоминания о муже, А. С. Бухарева желала найти в лице В. В. Розанова соратника по распространению идей покойного супруга среди широких читательских кругов. Благодаря активной посреднической роли протоиерея А. П. Устьинского это ей удалось. Анализ текстовых изменений в письмах А. С. Бухаревой позволил уточнить детали смысловых корреляций при подготовке их к печати.
* * *
Текст писем А. С. Бухаревой, сохранившихся в Отделе рукописей РГБ, впервые печатается в полном виде по оригинальным автографам: 8 писем 1903–1906 и 1909 гг. и б. д. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4195. Ед. хр. 1). Письма публикуются в хронологическом порядке с указанием в тексте авторской черновой правки и редакторских изменений. Ниже приведен список шрифтовых и знаковых выделений, отражающий процесс работы В. В. Розанова над текстом при подготовке писем к печати. Полная картина редакторской работы позволяет убедиться в тонкостях взаимоотношений верной наследницы идей о. Феодора и мыслителя, пропагандировавшего эти идеи, но с некоторой степенью искажения в пользу утверждения своих взглядов на семейные отношения.
В публикации учтены комментарии Б. Ф. Егорова, А. П. Дмитриева и Н. В. Серебренникова к публикациям писем А. С. Бухаревой в книге: Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et contra. Личность и творчество архимандрита Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. 832 с., а также С. Р. Федякина в книге: Розанов В. В. Около церковных стен // Собр. соч.: В 30 т. [Т. 5]. М.: Республика, 1995. С. 505–531.
Письма А. С. Бухаревой к В. В. Розанову
Список условных обозначений
Прямым — текст писем А. С. Бухаревой, который воспроизводится впервые.
Курсив — текст, вошедший в книгу В. В. Розанова «Около церковных стен» (СПб., 1906).
Полужирный курсив — выделенные места, вошедшие в книгу В. В. Розанова «Около церковных стен».
Подчеркивания — авторские выделения в рукописи.
Зачеркивания — авторская правка в тексте.
[Прямым в квадратных скобках] — тексты, купированные В. В. Розановым при публикации.
[ Прямым в квадратных скобках, выделенных курсивом ] — тексты для купирования, задуманные В. В. Розановым, но восстановленные при первой публикации.
{} — в фигурных скобках вставки В. В. Розанова, заменяющие текст А. С. Бухаревой.
-
<> — в угловых скобках воссоздание полного текста сокращенных слов.
Предисловие В. В. Розанова к публикации писем
В духовной — религиозной и умственной — истории России не только богословская система архимандрита Феодора Бухарева, но и его личность и биография имеют большое значение. Как выразился о нем священник А. П. Устьинский (см. письмо его, напечатанное в моей книге «В мире неясного и нерешенного», статья «Брак и христианство»19), он «выходом из монашества и вступлением в брак снял монополию спасения у монашества». Навсегда, поэтому, останется интересным вопрос именно об этом центральном и принципиальном поступке его жизни и вместе страдальческого, гонимого жития. Ибо именно за семью он был гоним, разом лишившись положения, содержания, должности и даже ученой степени доктора богословия!! Был ли это в жизни его случай, увлечение, минута? Или было тут сознание, а, наконец, и убеждение? Было ли Божие благословение над ним и семьею его? Вот отчего личность его супруги, Анны Сергеевны Бухаревой, имеет значение; и сохраняют ценность звуки ее голоса, в котором, как у писателей в их стиле, всегда слышится душа. В 1902 и 1904 гг. она обменялась со мною несколькими письмами, и я позволю себе привести отрывки из них. Замечу, что о. архимандрит Феодор после снятия монашества принял имя Александра, и в письмах везде именуется супругою «А. М.» или «Александр Матвеич».
1 (I)20
Многоуважаемый В [асилий] . В [асильевич!] . Тысячам читателей поведали вы о трагической судьбе моего покойного мужа, и его образ окружили таким сиянием, как образ человека с чистой и пламенной верой, — но за такую веру и пострадавшего. Глубоко признательна и за оценку профессора Знаменского, который так много положил бескорыстного труда на то, чтобы восстановить правду по отношению к человеку, умершему слишком 30 лет назад; ведь изучал он его систему, собирал матерьялы, и так много потрудился над этим. Один почтенный старец писал мне по поводу профессора Знаменского: «Слава Богу, правда не иссякла еще на Руси». Анна Бухарева . 16 декабря 1902 года. Переславль- Залесский. 21
2 (II)
Многоуважаемый В [асилий]. В [асильевич!].
Пришло ваше письмо, такое любезное и такое сочувственное.
Постараюсь ответить на сделанные вами мне вопросы. Боюсь, мое письмо не было бы слишком длинным, но хочется мне ответить вам на все подробно и обстоятельно.
Вы спрашиваете, есть ли у меня какие- нибудь записки о моем муже, Александре Матвеевиче? — Форменных, так сказать, воспоминаний нет у меня. Но в моих письмах к одному очень близкому человеку, священнику Лаврскому, есть, кажется, все мате-рьялы для воспоминаний, какие только могла я дать от себя. О. Валерьян Викторович Лаврский — соборный протоиерей в Самаре в настоящее время — был любимейшим учеником Александра Матвеевича, по Казанской академии, и дружба с ним продолжалась у мужа до самой смерти. А после его смерти отец Лаврский, кажется, каждые две недели писал мне из Варшавы, где был законоучителем при гимназии. Письма его, большие и очень содержательные, были тогда моим единственным утешением, — так что и я писала ему много, и, конечно, мои письма были полны воспоминаниями. После того я уже не думала писать воспоминаний — знала, что рассказала все, что только могла рассказать, и знала, что о. Лаврский сохранит это, как матерьял для воспоминаний или биографии моего мужа. Но несколько лет назад о. Лаврский, под влиянием особенно удрученного состояния духа, с предчувствиями близкой смерти — перепро-водил профессору Знаменскому мои письма, вместе с имеющимися у него рукописями Ал. М-ча, тоже им полученными от меня. Это было после того, как Знаменский написал
«Печальное 25-летие». — Кажется, и теперь это все находится у Зн-го. Три года назад были у меня еще записки, которые знает и о. Александр Устьинский 22 . Они написаны были по поводу письма Знаменского к г-же Лебедевой, дочери протоиерея Лебедева 23 . Он ей писал, что по отношению к Александру Матвеевичу занимают его следующие вопросы: 1) кто обманул его монашеством; 2) процесс его психического развития; 3) когда слагалось его миросозерцание и, наконец, 4) обстоятельства его детства. Предположив, что он хочет опять писать об Ал. М-че, я взялась, как могла, ответить на эти вопросы, и при этом еще постаралась изложить одну из основных идей Ал. М-ча — с помощью цитат, взятых буквально из его книги «О Православии в отношении современности». Последнее сделала я, имея в виду г. Лебедеву, которая, казалось мне, тогда еще недостаточно понимала его. — Посылала я эти записки о. Александру Устьинскому. Он был рад и по своему горячему сочувствию к о. Александру Матвеевичу и ко мне расхвалил и даже настоятельно советовал отпечатать их где-нибудь.
Но вот я недавно их перечитывала, и мне очень не понравилось, а для печати и совсем не годится; может только разве служить некоторым матерьялом, но никак не в том виде, как это написано. Целые длинные годы ни с кем, кроме книг, не приходилось мне беседовать по душе, а потому и стиль у меня получился словно 24 деланный, совсем не живая речь, — писала я спешно, лихорадочно, в приподнятом настроении, — и от давно скопившихся чувств — невысказанных — самый тон — какой-то постоянно приподнятый. А при отсутствии таланта, или даже простого уменья, всякий пафос, хотя бы самый искренний, отзывает риторикой, — что, конечно, расхолаживает впечатление 25 . Я это чувствовала и тогда, как писала, но ничего не могла с собой сделать: когда хотела писать проще, выходило у меня что-то до крайности бессвязное и тупое… Потому совсем это не годится для печати (не говоря уже о том, что нет никакого плана) — если б даже и представилась возможность напечатать. [А Вам за Ваше доброе желание я все-таки чрезвычайно благодарна.26] Так как Вы интересуетесь моим мужем, то я попрошу о. Устьинского переслать Вам мои записки для прочтения, — они у него есть. Надо, впрочем, сказать, что таким запискам дается ведь мало и веры; обыкновенно в таких случаях говорится: «жена ведь писала». Другое совсем дело воспоминания человека постороннего. — А есть такие воспоминания, и хотела бы я, чтобы Вы и о. Устьинский их прочитали. Это — воспоминания все того же о. Лаврского. Он их писал в год смерти моего мужа, но они у него остались на руках, так как некуда их было поместить. Тут же приводятся письма одного студента академии к своим родным, т. е. выдержки из его писем, посвященные о. Феодору. Студент этот был сам В. В. Лаврский, и его письма полны о. Феодором. Особенно дорого это тем, что писалось под непосредственным впечатлением.
О. Лаврский человек очень даровитый. Вам, может быть, что-нибудь известно об А. В. Потаниной 27 , жене известного путешественника. После ее смерти (в 90-х годах)
о ней много писали в газетах и журналах. Так вот это ее брат. Он был другом и товарищем по семинарии Добролюбова. К огда-то я читала в «Современнике» дневник последнего, где упоминает он о В. В. Лаврском, как о человеке с умом блестящим, но крайне скептическим, — так что он, Добролюбов, по временам принужден бывал от него отделяться, чтобы сохранить цельными свои верования. — Но вот такого скептицизма и признака нет в его письмах к родным, — там восторженные его отзывы об о. Феодоре. — В 1871 году он присылал мне свои воспоминания, а два года назад я их видела в руках у Е. А. Лебедевой, побывавшей в Самаре — и вновь их перечитывала. Чрезвычайно хорошо. К несчастию, судя по его редким письмам, опять он в удрученном состоянии духа, к тому же болен; но спрошу его: что он хочет делать с своими «воспоминаниями». Да, впрочем, я уже написала ему.
Вы еще спрашиваете меня — трудно ли мне было 28 { в свое время соединить свою судьбу с судьбою расстригшегося архимандрита }29 . Но мне кажется, что ко всякому подвигу любви, — любви настоящей, вполне приложимы слова Спасителя: «иго бо мое благо и бремя мое легко есть» 30 . Я могу с полной искренностью сказать, что все трудности проходили как бы мимо меня. С родными, конечно, была борьба жестокая, особенно с отцом — матери не было в живых.
У меня было небольшое именьице, лично мне принадлежавшее, но по желанию Ал. М-ча я отказалась от него, выходя за него замуж. 31 И за все время моей жизни с Ал. М-чем я не получила ни гроша от отца.
Своих родных у меня нет теперь, есть, правда, двоюродные, но я с ними не вижусь. Но с родными мужа у меня отношения самые лучшие. В прошлом году летом я гостила в селе у одного священника, женатого на родной племяннице Ал. М-ча, и отлично чувствовала себя в этой родственной семье. — Матерьяльные мои обстоятельства не блестящи, но нужды нет у меня никакой.
Что касается портрета моего мужа, то были у него карточки, когда был еще монахом. Есть одна такая и у меня. Но на мой взгляд не особенно похожа. У него было одно из тех нервных лиц, которые мало удавались в фотографии, — особенно в прежнее время, когда так долго надо было позировать. Но есть у меня карточка более похожая, хотя снята была она уже с мертвого 32 . Я закажу по ней другие и когда будут готовы, непременно перешлю одну вам, а другую о. Устьинскому. А что вы говорите о нем, об о. Александре Устьинском, это совершенно верно. Одно воспоминание о нем наполняет мне душу умилением и горячей к нему признательностью.
В заключение хочется мне вам передать одно воспоминание, — так сказать, характерное, которое пробудили у меня ваши слова о детях.
Был у нас ребенок, девочка; умерла она 11-ти месяцев. Александр Матвеевич, предчувствуя, что сам недолго наживет, говорил нередко со мной о том, как я должна ее воспитывать. Он говорил мне: «Вот ты любишь книги, склад характера у тебя мечтательный, а она, возможно, будет не такая, со складом более практическим, или будет любить веселье, удовольствия, танцы. Так ты смотри: не ломай ее. Научи ее любить Бога, людей, но не ломай, ради Бога, не ломай». — Подчеркнутые слова я буквально запомнила. — «Давай свободно развиваться тому, что заложено в ее природе». Но вот не суждено мне было воспитывать свою дочку. [Позвольте еще раз поблагодарить Вас за Ваши [фельетоны] {статьи о муже}. Ведь только некоторые в них строки, как, например, о значении в устах А. М-ча слова «Единородный» одни такие, — так и те постоят всех моих писаний. И с каким воодушевлением написали Вы.
Впрочем, воодушевление свойственно Вам, у Вас страницы дышат. Затем, примите уверение в глубоком к Вам уважении и сердечной признательности].
А. Бухарева .
29 декабря 1902 г. 33
3 (III)
20 января 1903 г.34
Многоуважаемый В [асилий]. В [асильевич!].
[Только что возвратилась из Ростова (Ярославского), где пробыла я больше недели. Уехала 9-го и возвратилась только сегодня, — так что Ваше письмо пришло в мое отсутствие. Поехала я по случаю внезапной кончины моей тетки. Я Вам писала, что родных нет у меня; однако вот была родная тетка, но она так недружелюбно относилась ко мне. Не видала я ее годами — что я забывала часто об ее существовании. Забывала и тогда, как писала Вам. Ее дочь телеграммой убедительно меня просила приехать, что я и исполнила. Теперь спешу ответить Вам. Не ясно только, сумею ли выразить то, что хотела бы выразить. Возвратилась я страшно утомленная и совсем больная, так что с трудом могу соображать.] — Буду с вами говорить с полной искренностью, — чем могу только доказать свое к вам доверие и уважение. Я вас искренно [и горячо] благодарила за фельетон от, {когда появилась первая половина вашей статьи} 12 декабря35, — благодарила искренно и за другой следующий затем {продолжение ее}. Но, конечно, вы сами знаете, многоуважаемый Василий Васильевич, что второй половиною последнего {концом ее} я не могла быть довольной. Однако удовольствие от первой половины [фельетона] пересилило неудовольствие от второй, и я все-таки поблагодарила Вас от чистого сердца. Хотела я вам возразить в своем письме к вам, но не была в силах этого сделать; больше чувствовала, как надо бы возразить, а мыслей своих не могла привести в ясность. Теперь слышу, что некоторые почитатели моего мужа хотят возражать вам; думаю, что возражение будет дельное, судя по одному человеку, который хочет писать, и думаю, что вы ничего против этого не будете иметь, так как это может только послужить к выяснению дела и поддержанию интереса к личности Александра Матвеевича и к делу его мысли36. [Но тогда в каком положении буду я, которая так благодарила Вас за фельетон от 17-го. Буду я скомпрометирована не как г-жа Бухарева (это для меня было бы безразлично), но как жена Александра Матвеевича Бухарева, — его жена, легкомысленно восторгающаяся тем, против чего возражать некоторые считают своей священной обязанностью. Если бы тогда в своем письме я сумела возразить Вам на вторую половину фельетона, то теперь немедленно дала бы свое согласие, несмотря на мою нелюбовь к публичности. Дала бы согласие потому, что простите именно Вы, которому я так признательна за сочувствие к моему мужу; повторяю, так глубоко признательна — и всегда это буду повторять. И теперь в силу Вашей просьбы я готова дать свое согласие, но с тем только условием, чтобы выпущены были мои выражения благодарности по поводу 2-го фельетона и оставались бы во всей силе только по первому, от 12 декабря. Прошу, не сочтите это за малодушие: если б дело касалось только лично меня, не побоялась бы нареканий, т. к. знаю сама за что благодарила, но как жена Александра Матвеевича я обязана быть крайне осторожной. А выражая Вам благодарность, я также будто согласилась бы с тем, что говорите Вы во второй половине фельетона — чего конечно быть не может — и таким образом публично заявила бы себя будто изменницей памяти моего мужа. А право, всего бы лучше не печатать моего письма. Впрочем, предоставляю это на Ваше усмотрение, т. к. имею к Вам полное доверие, но прошу только выполнить выраженное мною условие. Если надумаете напечатать, прошу выпустить слова, что писала я излагала я, пересказывая А. М. для г-жи Лебедевой: это могло бы обидеть ее и вконец испортить наши отношения. Прошу еще не называть полной фамилией протоиерея Лаврского. Быть может, он ровно не имел бы ничего против — не из робких он — но все-таки не имею я права распоряжать чужим именем, не спросясь об этом у того лица, у него и так неприятности, — боюсь прибавить к ним.]
Знаете ли? В тех записках, что посылала я о. Устьинскому, видела я по местам неправославный образ мыслей, — тогда как почти буквально составлены они из цитат, выписанных из сочинений Ал. М-ча. Но это меня не трогает, т. к. дело тут в единичных случаях, а я твердо знаю, что ни на йоту не исказила учение моего мужа.
С истинным уважением
А. Бухарева.
[P. S. Что касательно о пользах письма, то прошу, чтобы это было строго между нами . Конечно, г. редактору Вам надо будет показать мое разрешение на известные условия — если надумаете печатать. Также для о. Александра Устьинского это не секрет.
А. Б<ухарева>.
Только сейчас, перечитывая Ваше письмо, разглядела я, что дело идет о 2-м № «Нового Пути»37. Вообще зрение у меня плохое, а теперь, по случаю болезни, еще хуже обыкновенного
Так вот, значит, ответ мой является уже запоздалым.]
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Только на днях получила заказанные мною в Петербурге карточки. Но они не нравятся мне — плохо сделаны — а потому и посылаю Вам прежнюю, привезенную мною из Ростова. Не особенно она чиста, но зато много лучше тех, новых. Надеюсь, Вы не будете ничего иметь против того, что посылаю карточку — с умершего. Он очень похож на ней, и особенно нравилась она многим из тех, которые лично знали его и любили. Примите ее в знак глубокого к Вам уважения сердечно Вам преданной А. Бухаревой.
17 февраля 1903 г.38
5 (IV)
Многоуважаемый В [асилий] . В [асильевич!] .
[Спешу сказать, как я Вам благодарна за прекрасный подарок {присылку книг} и за добрую память обо мне. Я сама хотела выписать эти Ваши две книжки, — а некоторые другие давно уже имеются у меня.] С большим удовольствием я прочитала в июньской книжке «Нового Пути» добрый {Ваш} отзыв о статьях о. Светлова — в связи с признанием заслуг В. Соловьева перед богословской наукой39. Нельзя не согласиться с тем, что Богословский Вестник40 — лучший из наших духовных журналов. Мне говорили, что если б не Богословский Вестник, то статьи о. Светлова так и не увидели бы света; в других духовных журналах их не хотели принимать. Правда, есть здесь статьи, не отвечающие общему свежему направлению, которое, говорят, зависит много от людей, стоящих во главе редакции. — Но это, пожалуй, и неизбежно в журнале академическом, где каждый профессор имеет право на помещение своей статьи. Вот, кстати, я хочу рассказать Вам как я была возмущена статьей проф. Тареева «О нравственном значении Христова воскресения» (Богословский Вестник за прошлый год), где он с решительностью восстает против верования в воскресение Христа во плоти. Статья написана в тоне, не допускающем возражений. Главным образом меня вымучил его спиритуализм, которым хочет он затемнить широкие горизонты, имеющие открываться с развитием учения о Боговолощении. [Против него выступил было в Мис<сио-нерском> Обоз<рении> прот. Лаврский, но Тареев ответил ему сердитой отповедью41, где говорит о невозможности для ученого богослова сказать свое новое слово без того, чтобы ретроградная критика не накинулась на него. Но спиритуализм в богословской литературе у нас нисколько не новость, и не даром же сам он ссылается на богословие Макария. Хотя олимпийство Тареева и производит несколько комичное впечатление, но все-таки]42 я не могу относиться равнодушно к его статьям по важности вопросов, которых он в них касается. А как потускнел бы Светлый наш Праздник, если бы православное наше представление о воскресении Христа отвечало спиритуалистическому представлению Тареева, не чувствовал бы народ этого праздника так, как чувствует его теперь, не чувствовал бы так и пасхальной утрени, когда на возглас священника: «Христос воскрес», как из одной груди вырывается: «во истину воскрес».
[Я только на днях прочитала отповедь Тареева о. Лаврскому и мне живо теперь вспоминается та первая его статья, послужившая поводом к полемике, так что начав писать Вам и зная с каким вниманием Вы относитесь к вопросам веры, я не могла утерпеть, чтобы не говорить о том, что меня в сию минуту занимает и возмущает…] 43 .
Душевно Вам преданная
А. Бухарева.
15 мая 1904 г. 44
Многоуважаемый и добрый, очень добрый, Василий Васильевич!
В одном я не сомневаюсь — это в Вашем желании всяческого мне добра. Сомневаюсь я в том, чтобы выяснение моего нравственного облика могло помочь делу в том смысле, как Вы это пишите. Самое важное — это выяснение нравственного облика Александра Матвеевича, — такое, чтобы люди, у которых сердце и воображение чистые, могли понять, что для этого человека невозможны компромисс с своею совестью и измена своим убеждениям ради женщины. А те, которые на все способны смотреть нечистыми глазами, — их, поверьте, не убедят Ваши лучшие обо мне отзывы, — разница будет лишь таковой, что скажут: соблазнила женщина, вместо того, что: «баба соблазнила». А мне-то каково на суд таких людей отдавать свое самое дорогое, свое «святое святых». Все же психика женская иная нежели мужская, — женское сердце боится больше толпы, улицы, — улицы, где всегда пошловатые аппетиты и преобладают. Я не так давно дала согласие на отпечатание своей биографической заметки в сборнике, имеющем выйти в Москве, — с оглавлением: «Свободная совесть» (кстати: написано это в ответ на сделанные мне вопросы: под чьим влиянием принял А. М. монашество? Где и когда образовалось его миросозерцание?) — и просила составителя сборника выпустить все, что есть в моей заметке субъективного — так, чтобы, по возможности, меня не было здесь. Вообще очень редко говорю или пишу о себе; — разве только сгоряча и как-то невзначай случится мне написать так о себе, как я тогда Вам написала. И все Ваши старания с помещением моих писем реабилитировать меня в глазах людей, не способных понять нравственный облик Ал. М-ча, или просто с этим обликом не знако-

Василий Васильевич Розанов (1856–1919)
мых, — все эти старания, говорю, поверь те, будут безуспешны. Подумайте, Василий Васильевич: Вы лучше меня знаете людей. По Вашему желанию, посылаю Вам свою карточку. Только девичьей нет у меня, до замужества не снималась, и эта — не очень задолго до смерти А. М-ча. Карточка старая, и фотография плохая, но все-таки даст Вам возможность познакомиться с бывшим моим и физическим обликом. Я бы не стала Вас затруднять просьбою о возврате ее, но у меня одна только, и я привыкла видеть ее рядом с карточкой Александра Матвеевича, — такой, что я Вам посылала, Василий Васильевич! Ваш ум, Ваше сердце дают полное право на откровенность с Вами. Так вот я хочу Вам рассказать, какие надежды я на Вас возлагала года три-четыре назад, как я надеялась, что Вы в своих исканиях все ближе и ближе подходить будете к христианству. Но Вы вот уходите от христианства или даже ушли уже. И если, когда углубляетесь в истины христианства, как напр<и-мер> в письме Вашем ко мне, то это, думается, в качестве философа больше. Я один раз писала о. Устьинскому, а он успокоительно ответил: «Не уйдет, ему некуда уйти». И, знаете ли, я верю, верю, что если и ушли, то вернетесь Вы, непременно, вернетесь! Пишу это затем, чтобы Вы знали, с каким интересом я Вас читала и как отнесусь к Вашим писаниям. С надеждой и с верой в Вас все же отнесусь. Но Вы не обидитесь на меня, я думаю. Вы ведь в своих статьях не скрываете своего отношения к христианству. Кто-то сказал о Ренане, что всегда, как говорил о Христе, он казался коленопреклоненным, несмотря на свое антихристианство. Вы тоже преклоняете колена. Но, увы, теперь не вернулся. Неужели и Вы? Нет, не хочется верить этому.
Вы, кажется, читаете Богосл<овский> Вестн<ик> и, может, видели воспоминания об А. М-че о. Лаврского45. Как Вам это нравится?
Вам душевно преданная
А. Бухарева.
5 сентября 1905 г. 46
От души Вас благодарю, многоуважаемый Василий Васильевич, за подарок47. Я еще только свои письма успела пробежать, — за них, признаюсь, продолжала я опасаться, зная свою привычку писать всегда смаху. Но как бы не досталось мне от Таре-ева за «олимпийство»48? Впрочем, этого я не боюсь, да и не станет он, как говорится, связываться. Не могла не рассмеяться, прочитывая письмо о Тарееве: представляю себе недоумение его, — философа, богослова. Он имеет ведь обыкновение наносить удары своим оппонентам, и я представляю такую незначительную величину, что все удары попадали мимо, так что оказия такая, думаю, в первый раз случится с ним. —
Что редко так видно Вас в Новом Времени, Василий Васильевич? Не уходите ли уж в другую газету? Слышала, что были Ваши статьи в Русском Слове49, — а я как раз в этом году не выписала его. — От о. Устьинского недели две назад получила письмо, в котором он сообщил о себе, что вот уже пять недель, как тяжело хворает, а неделю спустя, в ответ на вопрос о его здоровье, он написал, что есть небольшое облегчение от мучивших его болей, но все еще они продолжаются.
Сохрани его Бог!
Еще раз сердечно благодарю за книги Ваши. А какое прекрасное издание!
Душевно Вам преданная
А. Бухарева.
14 марта 1906 г.50
19 марта <1906>.51
Многоуважаемый
Василий Васильевич.
Посылаю Вам книжку «О Православии»52, пользуюсь случаем выразить свою признательность, — что так много Вы посодействовали возбуждению в обществе интереса к личности моего покойного мужа53. По получении книжек от о. Лахотского, первой моей мыслию было распределять их по родным и близким А. М-чу лицам и отослать одну Вам — в знак моей к Вам признательности. Но вот, а то и другое намерение оставалось все неисполненным, хотя уже два месяца прошло, как книжки мною получены. Хотелось посылать при письме — и не умела я взяться за перо. С некоторых пор я словно умерла для родных и знакомых, никому не была в состоянии дать какую-нибудь весть о себе. Часто я хвораю, а главное, — душевное состояние такое, что мысль и воля как будто атрофированы. Я кроме газет ничего не читаю, — ничего не умею читать, а при уединенном образе жизни, — слишком даже уединенном — мысль и чувства поневоле сосредотачиваются все на одном, — и можете судить под давлением какого кровавого кошмара я постоянно живу. Каждое утро хватаешься за газету с страстным желанием какого-нибудь просвета. Но все только кровь и кровь. Хотя бы слабый луч начинающегося нового дня для России, можно бы и умереть спокойно. А вот еще зловещие слухи о новом роспуске Думы. Грозное и страшно знаменательное время мы переживаем, и Бог знает, что еще придется пережить. —
Где Вы теперь пишите? Судя по газетным выдержкам, в Новом Времени по церковному вопросу пишут теперь уже другие. Нового Времени я не выписываю, п. ч. приходит оно на третий день, — не знаешь, как дождаться и Русских Ведомостей, которые приходят на другой день. Случилось видеть один № «Русского Слова», где есть статья за подписью Варварина; сдается мне, что Ваша это статья, — почти в этом уверена. Неужели я ошибаюсь?
Сейчас прислали мне газету «Новь». Перепечатан здесь с «Русского Знамени» крест — как зловещий символ. Есть от чего содрогнуться. Ну, и время.
С истинным уважением
А. Бухарева.
28 декабря 1909 г.54
Многоуважаемый
Василий Васильевич.
Обращалась я к Вам через о. Устьинского с просьбою помочь мне55, если это Вам возможно, в деле продажи земли крестьянам, а недавно получила из отделения Банка уведомление, что продажа эта разрешена. Судя по тому, как дело это было обставлено в отделении Банка, я на это не имела надежды, и думаю, почти уверена, что таким благоприятным исходом дела я обязана Вам, Василий Васильевич. Приношу Вам глубокую мою благодарность. Но если б совершилось это даже без Вашего участия, если б не нашлось путей у Вас к исполнению моей просьбы, то все-таки мне бы захотелось от души Вас поблагодарить. Знаете ли, иногда и к близкому знакомому, при наличности хороших отношений, не можешь обратиться с просьбою, — не можешь, словно держит что-то, чувствуется, что с ним этого — нельзя: а вот что с Вами это «можно», за это вот и хочется от всего сердца Вас благодарить. Я потому только не решилась писать Вам сама, что знаю, как много заняты Вы, и предоставила о. Устьинскому обсудить, удобно ли отвлекать такою Вас просьбой. Это вот меня очень стесняло. Но когда письмо к о. Устьинскому было написано, мне стало хорошо на душе. Хорошо от доверчивого к Вам чувства, с каким оно писалось. И это независимо от того, какой мог бы получиться результат в деле, о котором просила. Так отрадно верить в добрую душу человека, — а без этой веры не могла бы к Вам обратиться, не будучи лично с Вами знакома. Так спасибо же за Вашу добрую душу, Василий Васильевич!
Не могу и выразить, какое чувство успокоения я испытала, получив уведомление, что продажа разрешена. Чрезвычайно рада за себя, — рада и за крестьян. Хотя продаю Товариществу, но все это оставшиеся на земле, бывшие крепостные моего отца — остальные поразбрелись по промыслам. Земля так им нужна, что, как они выражаются, дохнуть им без нее нельзя. Раньше они по инертности не покупали, но ко мне заявлялся покупатель, привез уже задатки. Но крестьяне, узнав об этом, стали просить меня продать им, и я пошла на риск. Отпустила покупателя — а покупатели здесь редко находятся — начав дело с крестьянами. И вдруг получаю такое известие, что Отделение не находит возможным разрешить продажу, так как много лесу, а Банк этого не любит. Вот я и очутилась прямо в отчаянном положении. От о. Устьинского ответа на свое письмо я долго не получала и, зная его слабое здоровье, стала за него опасаться; послала письмо ему с известием, что продажа разрешена. Вам об этом писать не решилась, чтобы Вас не удивить выражениями благодарности, в том случае, если о. Устьинский по болезни не мог написать Вам. Вчера получила от него письмо; пишет, что моя просьба Вам передана; а что касается здоровья, то опасения мои оправдались: он весь декабрь прохворал, и настолько серьезно, что едва теперь может перо в руках держать. Страшно его жаль, такое плохое здоровье и так много тяжелого в жизни ему приходилось и приходится переживать. Сохрани его Бог!
На днях я перечитывала, какие были у меня письма от Вас; в одном из них Вы говорите: «Аскоченский побежден». А вот ведь жив он, живут его язык, приемы его, его голос раздается громко в тех сферах, откуда идут репрессии. Целая травля на семинарии, академии. Аскоченство, видно, живуче, привольно, видно, ему у нас на Руси, — питается всласть, заедая молодые жизни. Благо тем гонимым, которым из семинарий и академий удается вырваться. А остающимся больше, чем когда-нибудь, грозит участь сделаться если не атеистами, то форменными лицемерами. Вообще, что-то роковое над Россией тяготеет. Впрочем, что я говорю, Вам лучше, чем мне, все это известно.
Поздравляю Вас с Праздником и с Новым годом и желаю всего Вам хорошего, — всего того, что Вы сами могли бы себе пожелать. Еще раз горячо благодарю за все хорошее Ваше.
Вам преданная
А. Бухарева.
Не знаю, можно писать по прежнему адресу, потому посылаю заказным.
Список литературы «Хорошо от доверчивого к вам чувства» (письма А. С. Бухаревой к В. В. Розанову 1903-1909 гг. с предисловием и комментариями к публикации)
- Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et contra. Личность и творчество архимандрита Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. 832 с.
- Бухарева А. С. Письма к В. В. Розанову 1903–1909, б. д. // ОР РГБ. Оп. 1. М. 4195. Ед. хр. 1.
- Воронцова И. В. Синтез науки и религии, опыта и веры в богословии архимандрита Феодора (Бухарева) // Вопросы философии. 2013. № 12. С. 68–77.
- Воронцова И. В. Протоиерей Александр Устьинский и «неохристианство». Путь от «реформаторства» к расколу (на материале переписки с В. В. Розановым 1907–1919 гг.) // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2011. № 5 (42). С. 66–84.
- Воронцова И. В. Протоиерей Александр Устьинский и «реформатор» Василий Розанов. История духовного суда над протоиереем Александром Устьинским, изложенная в переписке 1903 года // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2010. № 3 (36). С. 83–101.
- Воронцова И. В. Разработка тезисов «неохристианской» доктрины в переписке В. В. Розанова и протоиерея А. П. Устьинского (1898–1901) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. 2010. № 2 (35). С. 7–21.
- Дроздов М. С. Устьинский Александр Петрович // Розановская энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. С. 1033–1040.
- Ломоносов А. В. Корреспонденты В. В. Розанова (Биобиблиографические комментарии к записям В. В. Розанова на письмах, хранящихся в НИОР РГБ) // Записки отдела рукописей. М., 2004. Вып. 52. С. 436–576.
- Розанов В. В. Брак и христианство (Из переписки с православным священником) — Письма священника А. П. У-ского. С введением и замечаниями В. Розанова и с протестом С. Ф. Шарапова // Розанов В. В. Собр. соч.: В 30 т. [Т. 6]. В мире неясного и нерешенного. М.: Республика. 1995. С. 107–147.
- Розанов В. В. В чаяниях «движения воды» // Розанов В. В. Собр. соч.: В 30 т. [Т. 25]. Природа и история. М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. С. 351. Впервые: Новый путь. 1904. № 6. С. 247–252.
- Розанов В. В. Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей) // Розанов В. В. Собр. соч.: В 30 т. [Т. 21]. Террор против русского национализма. М.: Республика, 2005. С. 89–91.
- Розанов В. Четыре письма Анн. С. Бухаревой // Розанов В. Около церковных стен. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. Т. 2. С. 39–47.
- Розанов В. Четыре письма Анн. С. Бухаревой // Розанов В. Собр. соч.: В 30 т. [Т. 5]. Около церковных стен. М.: Республика, 1995. Т. 2. С. 253–258.
- Тареев М. Воскресение Христово и его нравственное значение // Богословский вестник. 1903. Т. 2. № 5. С. 1–45; № 6. С. 201–217.
- Тареев М. М. Христианство и религия В. В. Розанова // Богословский вестник. 1907. № 12. С. 649.
- Устьинский А. П. Письма к Розанову В. В. 1904 г. // ОР РГБ. Оп. 1. М. 4209. Ед. хр. 7.
- Устьинский А. П. Письма к Розанову В. В. 1909 г. // ОР РГБ. Оп. 1. М. 4209. Ед. хр. 12.
- Устьинский А. П. Письма к Розанову В. В. 1911 г. // ОР РГБ. Оп. 1. М. 4209. Ед. хр. 13.
- Фатеев В. А. Бухарев Александр Матвеевич // Православная энциклопедия М.: Православная Энциклопедия, 2003. Т. 6. С. 398–401.
- Фатеев В. А. Бухарев Александр Матвеевич // Розановская энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. С. 174–177.
- Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь. Творчество. Личность. Л.: Художественная литература, 1991. 368 с.