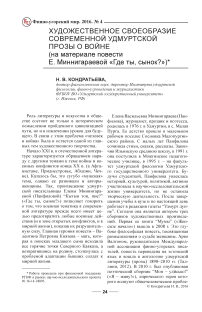Художественное своеобразие современной удмуртской прозы о войне (на материале повести Е. Миннигараевой "Где ты, сынок?")
Автор: Кондратьева Наталья Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности изображения локальных войн на материале современной удмуртской прозы. Уделяется внимание метафорам телесности и предметности, которые являются доминирующими в рецепции войны.
Современная удмуртская литература, елена миннигараева (панфилова), проза о войне, первая чеченская война, художественное своеобразие, образ матери
Короткий адрес: https://sciup.org/14723312
IDR: 14723312
Текст научной статьи Художественное своеобразие современной удмуртской прозы о войне (на материале повести Е. Миннигараевой "Где ты, сынок?")
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(г. Ижевск, РФ)
Роль литературы и искусства в обществе состоит не только в историческом осмыслении пройденного цивилизацией пути, но и в извлечении уроков для будущего. В связи с этим проблема «человек и война» была и остается одной из главных тем художественного творчества.
Начало XXI в. в отечественной литературе характеризуется обращением наряду с другими темами к теме войны и военных конфликтов конца XX в. (а Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Чечне). Казалось бы, это сугубо «мужская» тема, однако ее развивали и авторы-женщины. Так, произведение удмуртской писательницы Елены Миннигара-евой (Панфиловой) “Кытын тон, пие?” («Где ты, сынок?») позволяет говорить о том, что военная тематика в современной литературе прежде всего имеет целью предотвратить любые военные действия (и в зоне открытых конфликтов, и в мирной жизни), показав их разрушительную силу. Главная героиня повести – Валентина Петровна Князева – мать, которая в поисках младшего сына исходила все горячие точки Северного Кавказа, а возвратившись на родину, столкнулась с проблемой адаптации бывших солдат к мирной жизни.
Елена Васильевна Миннигараева (Панфилова), журналист, прозаик и поэтесса, родилась в 1976 г. в Удмуртии, в с. Малая Пурга. Ее детство прошло в маленьком рабочем поселке Сосновка Малопургин-ского района. С малых лет Панфилова сочиняла стихи, сказки, рассказы. Закончив Ильинскую среднюю школу, в 1991 г. она поступила в Можгинское педагогическое училище, в 1995 г. ‒ на факультет удмуртской филологии Удмуртского государственного университета. Будучи студенткой, Панфилова увлеклась историей, культурой, политикой, активно участвовала в научно-исследовательской жизни университета, но не оставила творческую деятельность. После завершения учебы в вузе и по настоящий день работает в редакции газеты “Удмурт дун-не”. Сегодня она является автором трех сборников художественных произведений. Первая ее книга “Мумы” («Женское начало») вышла в 2008 г. Это глубоко философская повесть, посвященная размышлениям о судьбе женщины. Арво Валтоном, руководителем Международной ассоциации финно-угорских писателей, повесть переведена на эстонский язык и вошла в антологию удмуртской литературы (прозы) 1890‒2010 гг. (Таллинн, 2012). В 2010 г. был опубликован поэтический сборник “Мон ‒ улӥсько!” («Я ‒ живу!»), лирического героя которого волнуют общечеловеческие пробле © Кондратьева Н. В., 2016
мы: жизни и смерти, любви и ненависти, отношений. В 2016 г. был издан сборник “Сьӧд сюлык” («Платок-покрывало»), куда вошли рассказы, фэнтези, детектив и повесть “Кытын тон, пие?” («Где ты, сынок?»).
Е. Миннигараева (Панфилова) – лауреат премии Общества М. А. Кастрена (Финляндия) в области журналистики (2002, 2009 гг.), победитель и лауреат ряда республиканских и всероссийских конкурсов в области литературы и журналистики, в том числе лауреат конкурса журналистских работ журнала «ЭТНОсфера» (Москва, 2011 г.).
Журналистская деятельность подготовила почву для написания повести «Где ты, сынок?». Миннигараева рассказывала в личной беседе: «На одном из мероприятий национальной организации “Удмурт Кенеш” я решила сделать небольшое интервью с активистом общества удмуртской культуры г. Чайковский. Обычная сельская женщина, живущая в пригороде, сама, своими силами создала отделение общества удмуртской культуры, активно работает над сохранением и развитием удмуртского языка, культуры в городе. Но неожиданно во время интервью она прослезилась, вспомнив то, через какие трудности ей пришлось пройти. До сих пор ей не давали покоя воспоминания о чеченской войне, о матерях, искавших и не нашедших своих сыновей, о погибших молодых парнях. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь написал об ужасах чеченской войны… Не скрою, после встречи я подумала: стоит ли вновь погружаться в эту тему, так как я уже писала статью о другой женщине, которая также искала своего сына и нашла его. Но каждый вечер я чувствовала печальные глаза Валентины Князевой. И я поняла, что отказать не смогу – нужно написать. Каждый вечер я начала перебирать в памяти своих одноклассников, знакомых, которые прошли через чеченскую войну. Вспомнила их непростые судьбы и судьбы матерей. Более того, у меня у самой рос маленький сын ‒ будущий защитник отечества. А как бы я, мать, прореагировала, если его, не дай бог, забрали на какие-нибудь военные действия... И я начала работу над очерком. Да, первоначально планировала написать очерк. Но вскоре поняла: я хочу рассказать больше, я хочу понять и показать то, чему в то время не могла найти объяснение и сама. Так родилась повесть “Кытын тон, пие?”».
Описания ужасов войны, которыми изобилует первая часть повести, рождают новые потенции художественного изображения, позволяя продвинуться от эпического к экзистенциальному: какова цена человеческой жизни?
® Финно – угорский мир. 2016. № 4 не доведется пройти через те страдания, через которые пришлось пройти мне»).
Создавая собирательный образ матери, автор противопоставляет образы матери, которая готова на все ради спасения собственного ребенка: “Война-лэн тусыз кышномуртлы уг тупа, шуо. Но дуно нылпиосыз понна мае гинэ уз чида анай!” [1, 38 ] («Говорят, у войны не женское лицо. Но ради своих детей какие только страдания не вынесет мать»), и матери, которая оставляет детей сиротами: “Дунне вылын нуны вордэм кыш-номурт ‒ анай ӧвӧл на. Пиналэз будэ-тэм, утялтэм нылкышно – анай” [1, 39 ] («Мать – это не та женщина, которая родила ребенка. Мать – это та женщина, которая ребенка вырастила и поставила на путь праведный»).
Повесть основывается на реальных событиях. Об этом говорит и стремительная смена хронотопа произведения в первой половине повествования: города Чайковский, Пермь, Минеральные Воды, Грозный, Червлёное, Моздок, Ростов-на-Дону, Волгоград. Действие разворачивается в самом начале 1995 г. и заканчивается в начале 2000-х гг. Официальной датой начала Первой чеченской войны принято считать 11 декабря 1994 г., когда начался ввод Объединенной группировки войск (ОГВ) в Чечню.
В ходе повествования также приводятся реальные исторические события, в частности, как отмечают историки, 11 февраля 1995 г. 8-й корпус генерала Рохлина был выведен из боев и начал передислоцироваться в Волгоград: “Валяпайлэсь пизэ Грозныйысь но ӧз шедьтэ. Ивортӥзы: Лев Рохлин генерал-лэн кивалтэмез улсын Чечняе ожмаськы-ны нырысь ик басьтэмъёсты ожмасько-нысь поттозы” [1, 48 ] («Сына Валентины в Грозном не нашли. Сообщили: солдаты, которые под командованием генерала Льва Рохлина первыми были призваны на боевые действия в Чечне, будут выведены из зоны военных действий»).
Отдельно следует указать роль в повести города Ростова-на-Дону: “Пизэ Волгоградэ келямъёс пӧлысь ӧз шедь- ты, иське, ӧвӧл ни солэн Аликез, ись-ке, Ростов-на-Донуысь утчано луоз, ожын быремъёсты возёно рефрижера-торъёсысь” [1, 49] («Своего сына среди солдат, направленных в Волгоград, она не нашла. Значит, нет уже в живых ее сына. Значит, его тело следует искать в Ростове-на-Дону, в рефрижераторах, где содержат тела погибших солдат»). Действительно, именно здесь располагалась 124-я Центральная лаборатория медико-криминалистической идентификации, куда доставлялись все неопознанные останки погибших в этой кровавой войне военнослужащих. Вагоны были набиты телами российских солдат. Многих уже невозможно было опознать: разорванные снарядами, обгоревшие, обглоданные собаками.
Реальные события, реальное время, реальные географические объекты создают исторический контекст произведения, усиливая его психологизм и драматизм. Размышления главной героини о бессмысленности войны еще и еще раз подчеркивают хрупкость мироздания: “Туала азинскем вакытэ та война но луыны кулэ вал-а? Шат визьмо кивалтӥсьёсмылы ваньзэ визьмын лэсь-тыны уг луы вал?” [1, 51 ] («В наш развитый век разве нельзя было предотвратить эту войну? Разве нашим мудрым руководителям нельзя было решить проблему мирным путем?») или: “Малы егитъ-ёслы сыӵе адӟон пыр потоно вал? Оло, аспӧртэм курбон со? Азьланезлы ӟечгес улонэз, шудэз валан, дунъян понна?” [1, 54 ] («Зачем таким молодым людям нужно было пройти все эти испытания? Может быть, это некое жертвоприношение? Для того чтобы в будущем понять жизнь, ценить свое счастье?»).
Другой особенностью анализируемой повести Е. Миннигараевой (Панфиловой) является отсутствие ура-патриотизма. Идеология произведения восходит к стоицизму с его пафосом внутреннего подвига во имя сохранения личности и в конечном счете во имя блага общества: “Котькудӥз анай малпа таза, визьмо, кужмо пи будэтыны, нош пиез армие мыныны дась луэ но, кышно-мурт куректэ: кыӵеен бертоз солэн лул-каез?” [1, 37] («Каждая мать стремится вырастить здорового, сильного, умного сына. А когда приходит время отправляться ему в армию, женщина начинает переживать: какой же возвратится ее кровинушка?»).
По мнению критиков-литературоведов, в отечественной литературе существуют определенные универсалии изображения чеченской войны. Так, Ю. Щербинина в статье «Метафора войны: взгляд русских писателей на события в Чечне» на основе анализа романа Захара Прилепина «Патологии» (2004), сборника рассказов Владислава Шурыгина «Письма мертвого капитана» (2005) и романа Владимира Маканина «Асан» (2008) выявила главные тенденции внутреннего построения произведений, написанных об этой войне [2; 3]. Не являются они исключением и для удмуртской прозы. Как и в русской литературе, доминирующими здесь выступают следующие две метафоры.
Как отмечает Ю. Щербинина, современные авторы чаще всего вводят читателя в «патологию» войны через метафору телесности: тактильности переживаний, ощущения мира как непосредственно осязаемого, объяснения происходящего через осознание собственного и изучение чужого тела [2]. В повести Е. Минни-гараевой (Панфиловой) данная метафора наиболее ярко проявляется в описаниях последствий военных действий: “Тужгес пичизэ пизэ Чечняе басьтэмзэс тодыса, кышномурт сюрес вылэ потэм. Уйёсы но бусыостӥ, нюлэсъёстӥ, гурезьёстӥ огназ вамышъям. Кыӵе но кӧшкемыт суредъ-ёсты адӟоно луымтэ солы! Тани бусыын адями костаське, йыраз туж бадӟым пась, нош ымнырзэ но пуштӥрлыкъёссэ пуны-ос сииллям ни. Но со адямиез но кин ке утча ук!” [1, 47] («Когда она узнала, что самого младшего сына направили воевать в Чечню, она тотчас отправилась в дорогу. Даже по ночам она в одиночку пробиралась через поля, леса, горы. Какие только ужасающие картины не повидала она на своем пути! Вот в поле ва- ляется тело человека, в голове – огромная зияющая дыра, а его лицо и внутренности обглоданы собаками. Но ведь и этого (сгинувшего) человека кто-то разыскивает!») или: “Валяпаен вераськем бере со нош ик кыдёкысь шаеръёсы кош-кем. Но… пиез интые солы кык сутскем пыдъёс сётӥллям. Соос гинэ кылиллям на йыг-йыг, йӧно ожгарчилэсь” [1, 55] («После беседы с Валентиной она снова отправилась (на поиски своего сына) в далекие края. Но… вместо встречи с сыном она получила только две обгоревшие ноги. Только они остались от коренастого, крепкого бойца»).
Произведение удмуртской писательницы Елены Миннигараевой (Панфиловой) “Кытын тон, пие?” («Где ты, сынок?») позволяет говорить о том, что военная тематика в современной литературе прежде всего имеет целью предотвратить любые военные действия (и в зоне открытых конфликтов, и в мирной жизни), показав их разрушительную силу.
Много внимания в повести уделено мотивам крови и кровопролития. С одной стороны, кровь как продолжение рода: “Ӧвӧл, со Валяпайлэн пиез ӧвӧл. Ись-ке, нош ик утчаськоно. Бен кытын со-лэн дуно виркомокез?” [1, 43 ] («Нет, она снова не встретила своего сына. Значит, нужно искать. Где же ее дорогой сыночек, ее кровинушка?»). С другой стороны, это боль и страдания, причиненные войной: “Нош одӥг пол пияшез вайизы: анлыэз воксё ӧвӧл – пазьгемын; йырыз, мугорыз – копак вир” [1, 48 ] («А однажды привезли молодого бойца: подбородка у него совсем не осталось – разорвало, голова и тело – все в крови»). Антиномия жизни и смерти, скрытая в мотиве крови, сопровождает главную героиню на всем протяжении повествования. Не случайно во время долгих изнуряющих поездок она всеми органами чувств ощущает присутствие крови: “Вертолётын кыӵе ке голькыт, йырез поромытӥсь вир зын.
Валяпай ноку но оз малпалля, вирлэн зы-ныз вань шуыса. Но вертолётын со укыр зол шодйське: нырын гинэ овол, кыл вы-жыын, оло нош – быдэс мугорын” [1, 49 ] («В салоне вертолета какой-то сладковатый, удушающий запах крови. Тетя Валя никогда не думала, что кровь может иметь свой запах. Но в салоне вертолета он явно присутствует: его можно учуять не только носом, но его присутствие остается и на языке, а может – и на всем теле»).
Реальные события, реальное время, реальные географические объекты создают исторический контекст произведения, усиливая его психологизм и драматизм.
Подобные описания, отражающие вечную дихотомию плоти и духа, что ярко проявляется в судьбах персонажей, которые находятся между жизнью и смертью, вновь подталкивают читателя к размышлениям о смысле жизни, о предназначении человеческого бытия.
Другая метафора, способствующая рефлексии событийности и психологии Первой чеченской войны, по мнению Ю. Щербининой, приводит современных авторов к обратному в некотором смысле приему - читатель постигает войну через метафору предметности : «Живой ли, мертвый ли, человек на войне - манекен, кукла, маска» [2]. И в этом, согласно исследователю, обнаруживается особая специфичность современных военных кампаний. Юные солдаты становятся «пушечным мясом», даже не зная, ради чего они воюют:
“‒ Малы, анайёслы ивортытэк, пиосты войнае келяськоды? Малы семьяенызы но адӟиськыны уд сётӥське?
‒ Вылӥегес мынэ, соослэсь юалэ, ‒ вакчияк гинэ валэктӥз ожгарчи.
Оз тоды соку Валяпай: Чечняе мынон-зы сярысь, солдатъёслы гинэ овол, ко-мандиръёслы но шара вераны лэземын ӧй вал. Бен соин ик Чайковскийысь Марко-вое ветлӥсь автобусъёсты палэнтӥллям” [1, 37 ]
(«- Почему Вы отправляете этих юнцов на войну, даже не сообщив их матерям? Почему не даете возможность повидаться с семьями?
‒ Обращайтесь к тем, кто повыше. У них и спрашивайте, ‒ скупо произнес солдат.
Тогда тетя Валя еще не знала, что не только солдатам, но и их командирам не сообщалось вслух. Именно поэтому и сняли курсирующие между Чайковским и Марково автобусы»).
Ю. Щербинина подчеркивает, что «^рефлексия новейшего времени кардинально меняет образ человека на войне, чем дальше, тем отчетливее представляя его как “поделочный материал”, “живую мишень”, “пушечное мясо”» [2]. Действительно, в описаниях мест военных действий «живое» и «неживое» становятся в один семантический ряд: “Та-тын но ӝуам вертолёт сьӧмъёс, пуштэм самолёт бервылъёс костасько. Одӥгзэ бадзым самолётэз кошкемыт периос кы-клы кесиллям кожалод, пушкысьтыз оло-ма мында сьӧдэктэм езъёс ошиськемын. Соос - бурдо машиналэн ишкам вирсэръ-ёсыз кадь – шимесэсь” [1, 45 ] («И здесь валяются обломки вертолета, взорвавшегося самолета. Казалось, ужасные ветры (или Пери - злой дух) разломили большой самолет на две половины, и теперь из него во все стороны торчат потемневшие провода. Они - словно разодранные вены летающей машины - оставляют ужасающее впечатление»).
Подобные описания ужасов войны, которыми изобилует первая часть повести, рождают новые потенции художественного изображения, позволяя продвинуться от эпического к экзистенциальному: какова цена человеческой жизни? за что совсем еще юные солдаты отдают свою жизнь? кому нужна война? С этими вопросами вернувшиеся из горячих точек молодые люди вынуждены жить в мирное время. И эта проблема - проблема адаптации солдата к мирной жизни - также поднимается в повести “Кы-тын тон, пие?”: “Кинлы кулэ на асьме пи-налъёсмы? Анайёслы гинэ-а? – лушкем бӧрдылӥз кышномурт. – Кызьы огшоры улыны (улыны!) дышетоно соосты?” [1, 56] («Кому нужны еще наши дети? Только своим матерям? – тихо рыдала женщина. – Как их снова научить жить (жить!) мирной (букв. простой) жизнью?») или: “Ортчизы аръёс. Нырысетӥ чечен война сярысь политикъёс шара вераськы-ны уг ярато… Валяпайлэн Аликез трос курадӟоно луиз. Чечняе ветлыса улэп бертэм эшъёссэ троссэ ыштиз на: кин ке пытсэт сьӧры сюриз, кин ке ассэ ачиз быдтӥз” [1, 58] («Прошли годы. О чеченской войне политики говорить не любят… А сыну Валентины Алику пришлось еще много выстрадать: он потерял многих своих товарищей, прошедших чеченскую войну: кто-то оказался за решеткой, кто-то покончил с собой»).
Писательница уверена, что только добро, тепло семьи и матери может вернуть бывшего солдата к прежней – созидающей – жизни: “Война – со шудон ӧвӧл. Адями сюлмысь яраосты эмъюмен уд быдты. Дыр гинэ бурмытоз пидэс. Тӥ анай, тӥ – чидалоды… ‒ мур лулӟиз мӧйы эмъясь. – Вӧсяське” [1, 56] («Война – это не игра. Сердечные раны не излечить лекарствами. Только время расставит все на свои места. Вы – мать, вы – вытерпите… ‒ глубоко вздохнул пожилой доктор. – Молитесь за него»).
Таким образом, в художественном пространстве повести удмуртского автора Е. Миннигараевой (Панфиловой) испытание происходит не только на физическом, нравственно-психологическом уровне, но и на ментальном, духовном. Не случайно в самых сложных ситуациях главная героиня обращается к Богу. Образ Казанской Богородицы в контексте общей бо-гооставленности людей становится надеждой на спасение, на завтрашний день. Спасение человечества заключается в обращении к вечным заветам любви и милосердия к своим ближним. При этом имеются в виду не только христианские, но и общегуманистические ценности.
Список литературы Художественное своеобразие современной удмуртской прозы о войне (на материале повести Е. Миннигараевой "Где ты, сынок?")
- Миннигараева (Панфилова), Е. В. Сьӧд сюлык: веросъёс, повесть, фэнтези, детектив = Платок-покрывало: рассказы, повесть, фэнтези, детектив/Е. В. Миннигараева (Панфилова). -Ижевск: Удмуртия, 2016. -144 с.
- Щербинина, Ю. Метафора войны: взгляд русских писателей на события в Чечне //Сибирские огни. -2009. -№ 4. -Режим доступа: http://magazines.russ.ru/sib/2009/4/sh16.html. -Дата обращения: 03.10.2016.
- Щербинина, Ю. Метафора войны: художественные прозрения или тупики? //Знамя. -2009. -№ 5. -Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2009/5/sh15.html. -Дата обращения: 05.10.2016.