И. Н. Жуков: он назвал советских детей пионерами
Автор: Помелов В.Б.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье характеризуется личность видного советского педагога первой половины XX в. Иннокентия Николаевича Жукова (1875-1948) и дается анализ его многогранной организаторской и практической образовательной деятельности. Педагог показан как один из видных скаутмастеров и, в то же время, как организатор всесоюзной пионерской организации. Жуков предложил само слово пионер для обозначения членов детской коммунистической организации. И. Н. Жуков показан также как литератор, автор детских приключенческих книг с педагогическим уклоном; как деятель культуры и скульптор, который своим творчеством содействовал решению актуальных для его времени задач воспитания подрастающего поколения. Статья приурочена к 150-летию со дня рождения И. Н. Жукова.
Скаутинг, пионерская организация, и. н. жуков, а. в. луначарский, н. к. крупская, о. роден, э. а. бурдель
Короткий адрес: https://sciup.org/140309067
IDR: 140309067 | УДК: 371
Текст научной статьи И. Н. Жуков: он назвал советских детей пионерами
Введение. Имя Иннокентия Николаевича Жукова никогда не находилось под гласным или негласным запретом, но, несмотря на это, советские историки образования неизменно «обходили» его в своих трудах. Объясняется это тем, что общепризнанными авторитетами в вопросе учреждения и организации деятельности пионерского движения в 1920–1930-е гг. в СССР были «определены» совсем другие педагоги. В предлагаемой вниманию читателя статье автор стремился по возможности всесторонне показать личность замечательного отечественного педагога первой половины XX в., раскрыть содержание его многолетних усилий в области организации детского движения, дать оценку некоторым направлениям его многогранной деятельности. Это представляется особенно актуальным в год 150-летия со дня рождения И. Н. Жукова.

Материалы и методы. Автором активно использовался аксиологический научно-исследовательский подход, позволяющий выявлять ценностное содержание в работе изучаемой исторической личности. В силу того, что деятельность И. Н. Жукова осуществлялась в переломный для российского государства исторический период, автором частично применялся классовый и региональный подходы. К числу использовавшихся научно-исследовательских методов относятся биографический и мемуарный, а также метод работы с литературой.
Результаты исследования. Видный российский педагог, один из организаторов скаутского и пионерского движения в нашей стране, известный скульптор и детский писатель Иннокентий Николаевич Жуков родился 5(17) октября 1875 г. в поселке Горный Зерентуй, район Нерчинского завода, ныне село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края в семье титулярного советника, управляющего Горно-Зе-рентуйским рудником Николая Михайловича Жукова и Агриппины (Агрофены) Афанасьевны (урождённой Савинской). Иннокентий был пятым ребёнком в семье, а всего их было восемь [Помелов, 100…, 2018, с. 342]. Николай Михайлович, был сыном кузнеца, и прошёл нелёгкий трудовой путь от рудоразборщика до управляющего приисками. Был награждён бриллиантовым перстнем и орденами Св. Станислава III степени и Св. Анны III степени. Мать была правнучкой каторжанина.
Первыми учителями Иннокентия стали политические ссыльные, которые подготовили его к учёбе в Читинской гимназии. Родители стремились дать детям хорошее образование. Одна из дочерей, Анна, в замужестве Бек, стала известным в Забайкалье врачом и просветителем. Иннокентий был на 6 лет младше Анны.
В 12 лет он поступил в Читинскую мужскую гимназию.
В гимназические годы у мальчика проявился интерес не только к литературе как таковой, но и оформилось желание вносить свой «посильный вклад» в нее. Иннокентий стал редактором классного рукописного журнала «Секрет», для которого он писал заметки и стихи, набело переписывал тексты, рисовал карикатуры, выступал в качестве оформителя, художника и переплетчика. Также Иннокентий увлекся резьбой по дереву и лепкой фигурок из глины. Позднее Жуков вспоминал, что однажды ему попал в руки кусочек глины, который, как показалось мальчику, начал в его руках улыбаться. Первое, что он вылепил, была голова солдата. Позднее, к 150-летию И. А. Крылова, он вылепил его бюст в окружении многочисленных героев его басен.
В старших классах юноша стремился помогать семье. Он даже написал прошение на имя директора с просьбой разрешить давать частные уроки ученикам младших классов. В 1895 г. он окончил гимназию. В аттестате зрелости имелась такая запись: «На основании наблюдений за всё время обучения в Читинской гимназии поведение его вообще было необычное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ - весьма удовлетворительно, прилежание хорошее и любознательность особенная к изящным искусствам и поэзии» [Руденко, Общественно-педагогическая., 2009, с. 14].
В 1895 г. И. Жуков поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Через два с половиной месяца ректор извещал директора Читинской гимназии об успешной учебе ее выпускников, в том числе и Жукова. Но уже вскоре Иннокентий стал активным участником забастовок, студенческих волнений и демонстраций. 4 марта 1897 г. за хранение запрещённой литературы и связь с подпольной организацией он был отправлен в известную тюрьму «Кресты», но просидел там всего три дня и был отпущен. Вторично его арестовали в 1899 г. за участие во всероссийской забастовке студентов. На сей раз политическая активность не прошла для него так легко; его исключили из университета. Более того, юношу выслали в Псков, но через два месяца, по его просьбе, отправили в родное Забайкалье, в посёлок Нерчинского Завода.
В студенческие годы он подружился со своей будущей женой Александрой Ивановной Рындиной, которую хорошо знал с детства. Она была слушательницей Бестужевских высших женских курсов и товарищем Иннокентия по забайкальскому землячеству в столице. В 1901 г. Жукову удалось восстановиться в университете. Весной 1902 г. он сдал государственный экзамен и получил, наконец, диплом.
Любимыми писателями Иннокентия Жукова с детских лет были Жюль Верн, Томас Майн Рид и Джеймс Фенимор Купер, поэтому неудивительно, что он всей душой полюбил географию. Преподавание этого учебного предмета стало его профессией. Как учитель он начинал в столичных частных училищах Столбова, Е. Ф. Шрекника, Тимен-кова-Фролова и во Введенском коммерческом училище (1902–1912). В одном из писем другу, Николаю Александровичу Ильинскому, он с чувством удовлетворения рассказывал о своём первом уроке, на котором, кстати, присутствовал окружной инспектор, сказавший директору: «Из этого юноши выйдет хороший преподаватель» [ЦГАЛИ…, д. 12].
В последние годы университетской жизни юноша серьёзно увлёкся искусством. Иннокентий активно занимался лепкой и рисованием в скульптурном классе ректора Высшего художественного училища при Императорской академии художеств Владимира Александровича Беклемишева (1861–1919). Среди его учеников были также ставшие впоследствии знаменитыми скульпторами А. С. Голубкина, С. Т. Конёнков, М. Г. Манизер, Л. В. Шервуд и др. В таком окружении мастерство юного самородка из Забайкалья быстро росло. Уровень работ И. Н. Жукова стал таким, что, начиная с 1906 г., он принимал активное участие в ежегодных осенних выставках в Санкт-Петербурге, которые организовывал меценат Прохор Дмитриевич Прокофьев (1871–1927); (с 1894 г. он был известен в художественных кругах под псевдонимом Роберт Ауэр). В течение семи лет Жуков участвовал в общей сложности в девяти выставках, на которых продемонстрировал столичной публике в обшей сложности свыше шестисот своих работ. У него была хорошая пресса, – около сотни публикаций и откликов. В России и за ее пределами разошлось примерно 150 тысяч открыток-фотографий. Этому периоду его жизни и участию в выставках современный искусствовед Людмила Вульфовна Горбунова посвятила книгу «Скульптор Иннокентий Жуков. Осенние выставки (1906–1912)», изданную в 2012 г. [Горбунова, 2012].

И. Н. Жуков и его скульптура
В 1911 г. издатель В. Л. Древс выпустил тиражом 1000 экземпляров оригинальную книгу Жукова «Замок души моей», представлявшую собой большую подборку фотографий его скульптур. К каждой фотографии Иннокентием Николаевичем были даны комментарии белым стихом; сам автор называл свою книгу «поэмой» [Жуков, Замок…, 1913]. Спустя несколько лет она была переиздана в Чите. Участие в выставках, а также выпуск художественных открыток с изображением его скульптурных работ, принесли Жукову заслуженную известность в России, а затем и в ряде стран Европы.
Друзья помогли ему получить стипендию от Академии художеств, и в 1912 г. Иннокентий отправился в Париж, где он надеялся усовершенствовать свое мастерство. Состоялась долгожданная встреча с Огюстом Роденом (1840–1917), которого ещё до приезда, в письме, он просил стать своим наставником. Однако ознакомившись с фотографическими изображениями работ Жукова, всемирно известный скульптор отказался от сотрудничества с российским скульптором, сославшись на свой преклонный возраст, а также на то, что Иннокентий, по его мнению, уже состоялся как мастер. По словам И. Н. Жукова, О. Роден закончил своё письмо словами: «У вас слишком большая индивидуальность, и вы потратили бы много времени напрасно в борьбе с другой индивидуальностью. Пусть вашим мэтром будет сама природа» [ЦГАЛИ, д. 7]. И. Н. Жуков стал заниматься в студии скульптора Эмиля Антуана Бурделя (1861– 1929), ученика Родена, причем в одной группе вместе с будущим выдающимся советским скульптором Верой Игнатьевной Мухиной (1889–1953), создателем монументальной композиции «Рабочий и колхозница», являющейся одним из самых известных символов нашей страны.
Высоко ценили произведения И. Н. Жукова многие деятели культуры и просвещения (Э. А. Бурдель, Р. Роллан, С. Т. Конёнков, И. Е. Репин, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская и др.). О. Роден говорил о них так: «Это сильно, очень сильно», и отмечал, что видит в них невероятную мощь и экспрессию. А. М. Горький называл их талантливыми и жизненными, трогающими сердце. Л. Н. Толстой отмечал в них большую силу выразительности.
В Париже Жуков познакомился и сдружился с большевистской эмиграцией, и, в первую очередь, с А. В. Луначарским (1875–1933), который увлёк его большевистскими идеями. Анатолий Васильевич в 1917–1929 гг. руководил народным комиссариатом РСФСР, поэтому знакомство с ним впоследствии иногда помогало И. Н. Жукову в решении некоторых организационных вопросов. В 1914 г. Жуков выехал в Санкт-Петербург; он планировал вернуться вскоре в Париж, но начавшаяся мировая война вынудила его поменять свои планы, и не позволила ему вернуться в Европу.
И. Н. Жуков начал преподавать географию в столичном сиротском институте, продолжил занятия ваянием, а также активно включился в освоение нового для себя дела, – создание скаутской организации. «Когда разруха, вызванная войной, усилилась, и стало не до выставок и скульптуры, я невольно переключил избыток творческой энергии в педагогику и увлекся системой скаутинг, как новой и живой формой организации детей», вспоминал он впоследствии [Руденко, Общественно-педагогическая…, 2009, с. 15].
Ещё в Париже он познакомился с идеями замечательного канадского писателя-натуралиста Эрнеста Эвана Сетон-Томпсона (1860–1946), ставшего впоследствии первым руководителем организации бойскаутов Северной Америки. В своем поместье под Нью-Йорком он организовал для местных мальчишек «индейскую деревню», и практиковал в работе с ними длительные игры на местности с выслеживанием неприятеля, погонями, чтением следов и т. п. Важным источником информации по скаутскому движению для Жукова стали книги родоначальника скаутизма отставного британского полковника Роберта Баден-Пауэлла (1857–1941) «В помощь разведчикам» (1901) и «Скаутинг для мальчиков» (1908, «Scouting for boys»). В них делался акцент на военно-спортивную подготовку подрастающего поколения, и, прежде всего, на такие формы подготовки юношей как оперативная военная разведка, чтение военных карт, физическая закалка, преодоление препятствий, жизнь подростков вне цивилизации, в природных условиях и т. д. [Помелов, Скаутское…, 2015, с. 13].
Первые отряды российских скаутов появились в Царском Селе, Санкт-Петербурге, Москве, Батуме в 1908–1911 гг. Идею создания детских организации патриотической направленности поддержал сам российский Император Николай II. По его приказу Генеральным штабом была переведена и издана в России в 1910 г. книга «Скаутинг для мальчиков» под несколько другим названием «Юный разведчик. Руководство по скаутизму» [Помелов, Скаутское…, 2016, с. 81]. Эмблемой российских скаутов стала белая лилия, а девиз состоял из призыва «Будь готов!» и ответа «Всегда готов! За Россию!».
В 1914 г. в Петрограде возникло Всероссийское общество содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут», во главе с председателем, адмиралом Иваном Федоровичем Бострëмом, и покровительницей,
– великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой императрицы [По-мелов, Скаутское движение: за границей…, 2016, с. 4]. К 1917 г. в России сложилась организованная сеть скаутских объединений.
«Старший друг разведчиков России», – это звание Жуков получил в 1916 г., – воспринимал скаутизм как новое важное средство внешкольного образования и воспитания детей. Взяв за основу книги основателя мирового скаутского движения Р. Баден-Пауэлла, Жуков, с целью ознакомления со скаутизмом педагогов и родителей, на средства «Комитета общественного содействия мальчикам-разведчикам» издал собственный вариант пособия для скаутов под названием «Русский скаутизм. Краткие сведения об организации юных разведчиков» (1916) [Жуков, Русский…, 1916]. Следуя благородным идеям Сетон-Томпсона, он писал, что скаут – вовсе не военный разведчик, как это неизменно подчёркивал Баден-Пауэлл, а, прежде всего, альтруист, рыцарь, «который ищет, кому помочь». Он разъяснял цель и задачи скаутской организации в России как исключительно рыцарской , а не военной . Тем самым, в идеологическом плане он возражал Р. Баден-Пауэллу.
В то же время, И. Н. Жуков заимствовал у Р. Баден-Пауэлла идеи дисциплины, организованности, организационного деления скаутов на отряды и звенья, планирование работы с ними и др. В своей книге Иннокентий Николаевич использовал термины «пионерское звено» и «дружина» задолго до появления самой пионерской организации. Жуков редактировал журнал «Петроградский скаут», именовавшийся как издание Первого Петроградского отряда скаутов, состоящего при обществе «Русский скаут» (1916). Таким образом, с самого начала увлечения идеей скаутизма И. Н. Жуков выделял в нём, прежде всего, игровое начало, а также возможность направить дело воспитания детей и подростков в привлекательное для каждого ребёнка русло.
Летом в 1914 и 1915 гг., под Петроградом, в селе Поповка, ныне посёлок Красный Бор Тосненского района Ленинградской области, И. Н. Жуков руководил отрядом скаутов. Его скульптурная мастерская, которая размещалась в большом, добротном сарае, служила одновременно и штаб-квартирой отряда юных разведчиков. Трижды в неделю здесь проводились занятия, в ходе которых беседы о законах и заповедях скаутов чередовались с конкретными, практическими делами, такими как постройка забора для школы, организация концерта для местного населения, раскорчёвка пней, игра-соревнование, поход на реку Ижору, ночёвки в палатках и т.д.
Педагог А. В. Вахтин вспоминал, что дети-скауты обучались стрельбе и рукопашному бою. Тем самым, осуществлялась своеобразная начальная военная подготовка. Со старшими мальчиками из Поповки И. Н. Жуков создал добровольное юношеское пожарное общество [Александрова.., Педагог]. Его дочь, Ирина Иннокентьевна Жукова-Плотникова, вспоминала, что к ним сбегались дети со всего посёлка. Иннокентий Николаевич устроил во дворе те- атр, проводил спортивные соревнования. Историк детского движения В. Г. Яковлев в воспоминаниях «Наш дядя Кеша», написанных к 90-летию со дня рождения Жукова, писал: «До сих пор помню, как лет 50 тому назад мы, мальчики и девочки, любили бегать к своему любимому «дяде Кеше». Он был учителем географии, но в свое свободное время лепил и увлекался играми с ребятами...» [Александрова.., Педагог]. В декабре 1915 г. Жуков выступил с докладом «Цели и задачи скаутизма в России» на 1-м Всероссийском съезде инструкторов и лиц, интересующихся скаутизмом. Съезд утвердил материалы, которые были обязательны в работе скаутских отрядов, в том числе, молитву разведчика и законы разведчиков, которые сформулировал именно Жуков.
В сентябре 1917 г., спасаясь от свирепствовавшего в столице голода, Жуков с семьей уехал в Читу, дабы, как выразился Иннокентий Николаевич, «спастись от питерской продовольственной разрухи» [Руденко…, 2009, с. 15]. Поселились у сестры Иннокентий Николаевича Анны Бек, незадолго до этого, в 1915 (1916?) году, овдовевшей. Здесь уже жил, переведенный на поселение отбывший каторгу младший брат Николай. Большой дом сестры был в центре города, на ул. Софийской, (по другим данным, - на Корейской улице, ныне улица Ленинградская). Рядом находились краеведческий музей, женская, мужская гимназии и 2-е высшее начальное училище, в которое Жуков устроился учителем «рисования и лепки, географии и географических искусств». Он был принят на работу по так называемому «вольному найму», т. е. на период отсутствия постоянного сотрудника. Но ему хотелось занять более прочное положение в Чите, где Жуков планировал остаться, и поэтому 31 марта 1919 г. он даже просил совет училища предоставить ему штатное место. Одновременно он также преподавал в городской гимназии (1917–1921) и служил инструктором отдела единой трудовой школы министерства народного просвещения Дальневосточной Республики (ДВР, Чита, 1920–1922).
Читинский период в педагогической деятельности И. Н. Жукова был очень интенсивным. Он читал лекции по лепке на краткосрочных курсах по подготовке руководителей школ, устраивал праздник скаутов в городском парке столицы ДВР, вёл занятия на рабфаке, организовывал «Недели ребёнка», проводил летние лагеря, написал несколько пьес для школьных театров.
Жуков стремился внести новизну в театральные постановки. Ему было мало того, что зрители реагировали на пьесу аплодисментами; он хотел, чтобы они и сами включались в действие. Для того времени такой подход к организации сценического представления вполне выглядел как новаторский. Больше всего, по его мнению, для эксперимента подходили так называемые «судебные инсценировки», об опыте постановки которых он рассказывал в письме учителю Василию Ефремовичу Каменеву [Руденко…, 2009, с. 15]. В статье «Сценические импровизации в школе» Жуков приводил примеры придуманных им и облечённых в форму игры упражнений, которые позволяли заинтересовывать актёров и зрителей [Жуков, Сценические…, 1921]. Пьесы И. Н. Жукова были изданы в сборнике «Новые инсценировки» [Жуков, Новые…, 1919]. Они не требовали сложных декораций, были интересны, а главное, – в них обязательно поднимались нравственные проблемы. Пьесы Жукова были известны не только в Чите; сценарий одной из них («Преступление медведя», по басне И. А. Крылова) использовал московский отряд скаутов в 1921 г. в благотворительном спектакле, который устраивался в пользу голодающих Поволжья.
И. Н. Жуков активно взялся за организацию скаутского движения. В трудные годы гражданской войны, голода и разрухи он выступил как активный пропагандист новой для того времени системы внешкольного воспитания, которую с полным основанием считал способной стать могучей позитивной преобразующей силой в плане спасения детей и молодежи от тлетворного влияния улицы, хулиганства и морального разложения. И. Н. Жуков стремился прийти скаутам и их наставникам на помощь. Он выступал в городах ДВР, пропагандируя свои педагогические идеи, вёл дискуссии на страницах общественно-педагогической газеты «Думы Забайкальского учителя» и журнала «Вестник просвещения». В этих изданиях появились его статьи «Школа и два пути воспитания» [Жуков, Школа…, 1917], «Социальное воспитание в деревне» [Жуков, Социальное…, 1921], «Родина и скаутизм» [Жуков, Родина…, 1918],
«Новые основы социального воспитания» [Жуков, Новые…, 1921] и др. Большим препятствием в развитии скаутского движения был хронический недостаток литературы. Поэтому в 1921 г. Жуков выпустил в Чите «Спутник сибирского скаута», «Программу скаутских занятий. Руководство для скаутмастеров и патрульных», брошюру, раскрывающую методику проведения длительных воспитывающих игр под названием «Стаи волчат и птенчиков».
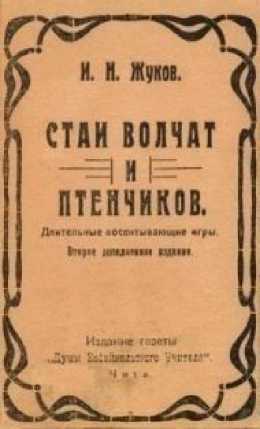
Книга И. Н. Жукова
Под его руководством в Чите начали выходить журналы – «Забайкальский скаут» и «Забайкальский бой-скаут». Здесь публиковались статьи скаутмастеров о практике работы, хроника скаутского движения в Сибири, материалы в помощь патрульным и советы новичкам, обзор литературы для детей и подростков. В № 5, ставшем последним, «Забайкальского скаута» в разделе «Хроника» давалась информация о поездке Жукова в Иркутск для оказания помощи, после чего иркутская орга- низация стала действовать по подобию читинской. Жуков проводил многочисленные беседы и лекции, писал статьи о скаутском движении. К нему обращались за советами ска-утмастера и педагоги Сибири. В устных выступлениях и через указанные печатные органы Иннокентий Николаевич пытался убедить общественность в том, что «живое дело воспитания нуждается в их поддержке». Он отмечал также, что внешкольным воспитанием, которое достигло определённых результатов на Западе, в России занимаются мало [Руденко, Общественно-педагогическая…, 2009, с. 15].
К весне 1918 г. И. Н. Жукову удалось создать в столице ДВР Чите организацию, в которой состояли отряды бойскаутов и гёрлскаутов, «стаи волчат и птенчиков» общей численностью около 600 человек. Это были учащиеся городских училищ и гимназий. Постепенно формировался и корпус первых скаутмасте-ров. Однако численность отрядов к концу того же года резко сократилась. Не надо забывать о том, что в Забайкалье, как и повсюду в стране, шла гражданская война; в обществе царили товарный голод, хаос и беззаконие. Остро ощущался недостаток продуктов питания и мануфактуры. Иными словами, многим детям, занятым вместе со своими родителями поисками заработка, было просто не до того, чтобы посвящать своё время скаутским играм. Несмотря на все трудности И. Н. Жуков уделял внимание организации скаутских отрядов даже в приходских (начальных) училищах посредством наиболее ра- циональных, на его взгляд, форм воспитания маленьких детей, а именно через создание «стай волчат и птенчиков».
Помимо Читы скаутские отряды возникли в городах Верхне-удинск и Нерчинск. Благодаря активной деятельности Жукова Чита стала своего рода центром скаутского движения не только Забайкалья, но и всей Сибири. В 1918 г. через журнал «Забайкальский скаут» Жуков обратился к скаутмастерам с предложением о проведении Всесибирского съезда и создании Сибирского руководящего центра скаутмастеров. Жуков брал на себя хлопоты в созыве этого съезда, вёл широкую переписку с сибирскими отрядами. В апреле 1918 г. здесь должен был пройти первый съезд, но этому помешали развернувшиеся на Даурском фронте боевые действия [Константинов, У истоков…, 2000, с. 94].
И. Н. Жуков объяснял успех распространения идеи и практики скаутизма тем, что эта система детской деятельности в полной мере учитывала психолого-педагогическую природу развития ребёнка, и имела в своей основе длительную воспитательную игру. Такую игру он считал очень ценным приобретением педагогики, и призывал учителей положить идею таких игр в практику внешкольного воспитания. Он постоянно обращался к игре как к форме работы с детьми, и даже выпустил в Чите двумя изданиями «Сборник кратковременных игр наиболее употребительных в школьной и скаутской практике». Большая часть этих игр носила групповой характер; они были направлены на развитие ловкости, силы и умения ориентироваться на природе.
Так что он не ограничивался лишь пропагандой уже известных идей скаутизма, а творчески разрабатывал их применительно к местным условиям.
Это нашло наглядное выражение в разработанной им в 1918 г. длительной игре, получившей название «Забайкальский экспедиционный корпус» [Жуков, Экспедиционный…, 1923, с. 43–48]. Собрав около 700 ребят в возрасте 10–14 лет, он предложил им пройти летом через всё Забайкалье с целью изучения его географии, флоры и фауны. Жуков объявил о создании «экспедиционного корпуса». У экспедиционного корпуса появилось своё знамя, – на синем поле семь золотых звезд созвездия «Большая Медведица». Дети делились по «специальностям» на отряды разведчиков, поваров, санитаров, охотников, рыболовов, ботаников, зоологов, хроникёров, фотографов и др. Для того, быть зачисленным в отряд, необходимо было выдержать, в общем, несложный экзамен. Каждый отряд имел свой знак, который вышивался на рукаве.
С целью подготовки к длительному путешествию «дядя Кеша» предложил детям целую программу испытаний. Он организовывал походы и экскурсии по окрестностям города, во время которых собирались коллекции минералов, растений, организовывались групповые соревнования. Это своеобразное соревнование продолжалось и после завершения экскурсий при обработке собранного материала. Заключалось оно в том, чтобы самостоятельно найти и определить по десять забайкальских растений, насекомых, птиц, животных, рыб и т. д. В результате, дети стали больше заниматься, читать, интересоваться природой и историей края. К тому же, было объявлено, что хулиганов и курильщиков в путешествие не возьмут. Как итог, дисциплина в учебных заведениях резко повысилась.
Таким образом, скауты Жукова были не только разведчиками, но и исследователями, туристами-краеведами. Он готовился провести «великое путешествие через Забайкальскую область». Однако с приближением к Чите отрядов белогвардейского атамана Григория Михайловича Семёнова (1890–1946) Жуков был вынужден распустить свой «корпус» и отменить путешествие. Сама идея «Экспедиционного корпуса» стала первым педагогическим опытом массового вовлечения детей в длительную воспитывающую игру по изучению родного края, но завершить этот замечательный опыт помешала гражданская война.
Другим значимым педагогическим опытом Жукова стал организованный им «Картофельный конкурс». Министерство народного просвещения ДВР своим распоряжением от 22.02.1922 г. поручало И. Н. Жукову провести в пределах Забайкальской области I-й агрономический конкурс. Весной в Чите появились объявления, в которых все дети школьного возраста приглашались участвовать в этом конкурсе. Им предлагалось объединиться в группы по три человека и более, и на выде- ленных участках самостоятельно выращивать картофель. Победители в качестве призов получали футбольный мяч и комплект книг. Сбор урожая должен быть проходить в присутствии учителя школы или служащего любого учреждения, где есть печать. Члены комиссии составляли протокол и отправляли его в министерство. В объявлении также давались инструкции по выращиванию картофеля и рекомендации агронома. Конкурс вылился в крупное мероприятие, которое захватило детей и взрослых. В итоге, в министерство поступило более пятисот отчётов от коллективных участников. Тем самым, педагог реализовал на практике выдвинутые им плодотворные педагогические методы длительной ролевой игры.
В 1921 г. Жуков написал открытое письмо «старшего друга скаутов» ко всем скаутмастерам, «борющимся за новую педагогику и за новые методы внешкольного воспитания детей РСФСР», в котором раскрыл своё понимание того, какой должна быть советская детская организация. Он призывал их ставить свои педагогические опыты и вести воспитательную работу в соответствии с системой длительных воспитывающих игр.
В 1921 г. ещё проводились парады скаутов; удалось организовать летний палаточный лагерь, основанный на принципе полного самообслуживании. В этом же году Жуков получил почётное звание «Старшего друга скаутов ДВР». О размахе скаутского движения свидетельствует краткая информация, помещённая в газете «Дальневосточная правда»: «6
мая в саду им. Жуковского при огромном стечении граждан состоялся парад и торжество скаутов в честь всемирного праздника скаутов. Парад открылся гимном «Интернационала», исполненным оркестром духовой музыки, после которого И. Н. Жуковым была произнесена речь о значении скаутизма в деле воспитания молодого поколения и в борьбе с хулиганством. Парад прошёл с большим подъемом. Участвовало в нём до 400 скаутов обоего пола» [Парад…, 1921].
Описание этого же парада оставил американский журналист Дж. Вуд. Он писал: «Большинство детей вышли на парад босыми и с непокрытыми головами. Не было и следа красивых праздничных нарядов, которые в прежние времена имелись у каждого русского ребёнка. Зрелище было красочное, – поучительное и печальное одновременно. Одна женщина привела своих маленьких детей. На голове у неё была красная косынка, из такой же ткани сшиты платьица троих маленьких девочек и костюм мальчика. Даже некоторые учителя были без обуви, а у многих изношенные ботинки были одеты на босу ногу. Во главе парада шёл военный оркестр» [Вуд, Заметки…, 2002].
Подвижническая работа по организации скаутского движения проводилась И. Н. Жуковым и его добровольными помощниками на общественных началах в условиях граж- данской войны, огромных материальных и бытовых трудностей. В годы падения морали и нравственности, жестокости и вседозволенности они пропагандировали гуманистический, рыцарский характер деятельности скаутов; ориентировали своих воспитанников на общественно-полезные трудовые дела, изучение родного края через экскурсии, походы и экспедиции.
Однако, несмотря на большие успехи, скаутское движение во всё том же 1921 году было запрещено правительством Дальневосточной Республики, которое в своей политике ориентировалось на центральное российское руководство, и видело в скаутизме вредное буржуазное течение.
В 1921 г. И. Н. Жуков был направлен правительством ДВР из Читы в Москву в качестве полномочного представителя ДВР с эскизом памятника, автором которого был он сам. Проект памятника был посвящён четвертой годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-волюции1. Правительство ДВР командировало его вместе с женой в Москву. Мандат ему подписал председатель правительства Николай Матвеев. В проездных документах было подчёркнуто, что их багаж и личные вещи «никаким вскрытиям, обыскам и конфискации не подлежат» [Баринов, Главный…]. По замыслу Жукова и руководства ДВР, предполагалось установить памятник десять лет спустя, а до этого даже сами руководители СССР, РСФСР и ВКП(б) именовали эти события не иначе как «октябрьский переворот».
в Москве, но эта идея не нашла поддержки в Москве.
4 ноября в газете «Правда» в заметке «К Октябрьским торжествам. Дар ДВР» сообщалось: «В Москву приехал из Читы известный скульптор Иннокентий Жуков. Ко дню 4-й годовщины Октябрьской революции он привез как дар ДВР проект монументального памятника «Социальная революция». Будущий памятник представляет полуразрушенную стену, на фоне которой выступает громадных размеров лицо – это пролетариат. Над головой революционная толпа охваченных энтузиазмом рабочих и бойцов революции. По проекту величина памятника 30 саженей. Кроме того, Иннокентий Жуков передал Совету Народных Комиссаров приветственную грамоту ДВР» [Баринов, Главный…].
В Москве И. Н. Жуков оказался в гуще споров относительно будущего детского движения. Он использовал эту поездку для того, чтобы выступить на совещании в Наркомпросе РСФСР по вопросу об организации детского движения на основе длительной воспитательной игры. Он призывал руководителей российского образования увидеть в скаутинге, прежде всего, педагогическую систему, в которой умело используются особенности детского возраста. В полемике с Н. К. Крупской он призывал не использовать отдельные аспекты скаутизма, а взять его в свои руки целиком, при этом «очистив от исторического мусора» [Руденко, Общественно-педагогическая…, 2009, с. 17].
Этому же вопросу был посвящён его доклад «О бойскаутизме» на
33-м заседании научно-педагогической секции Главного учёного совета Наркомпроса РСФСР (Москва, 1922). При этом он был категорическим противником «политизации» детской организации, а государственные деятели, наоборот, всеми силами как раз и стремились именно к этому. Жуков предлагал терпимо относиться к верующим детям, а советское государство объявило борьбу религии. Он считал, что скаутизм должен оставаться игрой для детей и подростков, и «скаутизм не может и не должен иметь целью втягивать юные души, в какую бы то ни было политику с ее водоворотом страстей, политика должна быть чужда юной, еще не окрепшей душе школьника» [Богуславский, Русские…, 1991, с. 42]. Он очень надеялся на то, что «освобождённый от буржуазно-политических тенденций скаутизм может быть признан Наркомпросом как новая форма социального воспитания» [Жуков, Новые…, 1921, с. 36]. Педагог пытался совместить интересы и потребности детей и запросы государства, призывал на помощь педагогическую общественность; даже писал, по-ви-димому, больше выдавая желаемое за действительную реальность, что «его доклады на эту тему вызвали в педагогических кругах большой интерес» [Жуков, Новые…, 1921, с. 36]. Это придавало ему надежду на благоприятный исход в вопросе о сохранении скаутизма.
Да, его эмоциональные, полные энтузиазма и конкретных примеров, выступления, внимательно выслушивали, но одновременно и напоминали ему о том, что ещё в 1919 г. 2-я Всероссийская конференция
РКСМ в резолюции «О физическом воспитании и скаутизме» приняла решение о немедленном роспуске всех существовавших в Советской России скаутских организаций. Но И. Н. Жуков всё-таки продолжал верить в то, что вопрос о запрете системы скаутинг ещё не решен окончательно, во всяком случае, хотя бы в ДВР. Но как раз именно в Дальневосточной Республике полный запрет был осуществлён даже раньше, нежели в столице. К нему с симпатией относился старый друг А. В. Луначарский, который вспоминал общение с И. Н. Жуковым следующим образом: «Иннокентий Жуков, забравшись в глубь Сибири, явился, в буквальном смысле этого слова, инициатором нового, советского, красного бойскаутизма. Он вносил в этот бойскаутизм не только революционный дух, но и много своих милых и, по большей части, талантливых фантазий… Когда у нас стало строиться пионерство, Иннокентий Жуков был привлечён к этой работе и одно время стоял близко к самой верхушке организаторов этого дела. К нему относились с большим уважением» [Баринов, Главный…].
Между тем, ЦК РКСМ в это время взял курс на полную ликвидацию скаутского движения. Нарком-прос РСФСР занимал более умеренную позицию и пытался привлечь левых скаутмастеров на свою сторону с целью создания детской коммунистической организации. Наркомпрос в лице Н. К. Крупской привлек И. Н. Жукова, как опытного скаутма-стера, к работе по созданию новой детской организации. Он считал необходимым наполнить идеи Сетон-
Томпсона и Баден-Пауэлла новым, социалистическим содержанием. Поэтому Жуков и стремился в этот период к сотрудничеству если не с ЦК РКСМ, то хотя бы с Наркомпросом по вопросу об организации пионерского движения.
И. Н. Жуков очень тяжело переживал полный запрет скаутского движения в ДВР. Скорее всего, это было важной причиной его переезда в 1922 г. в Москву; семья оставалась пока в Чите. В отсутствии И. Н. Жукова, но по его, ранее высказанной, инициативе, в Чите, в начале 1923 г. в центральном детском доме Дальневосточного отдела народного образования была создана новая детская организация, которая получила название юнисы , т. е. юные исследователи .
Созданием этой организации педагогами Читинского детского дома была фактически воплощена в жизнь неосуществлённая Иннокентием Николаевичем идея путешествия экспедиционного корпуса. Читинский детский дом открылся в 1921 г. и объединил детей, взятых из различных приютов. Работавший там В. Н. Фалилеев вспоминал: «В прошлом дети пережили режим Мариинского приюта. Это нечто среднее между институтом благородных девиц, монастырем и тюрьмой. Старый строй приюта был разрушен, новый же только начал создаваться. Внешняя палочная дисциплина исчезла, и дети быстро превратились в подобие дикой орды. Невозможный шум, беспорядочные разнузданные крики сотни детских глоток раздавались целыми днями, не прекращаясь иногда и ночью» [Фалилеев, Педагогиче- ская…, 1923, с. 100]. В этих невыносимых условиях у педагогов возникла идея «взять старших, наиболее трудных детей и отправить их в путешествие в надежде, что в новых условиях с ними будет легче справиться» [Фалилеев, Педагогическая…, 1923, с. 100]. Идея с организацией путешествия не была случайной, а фактически стала реализацией неудавшейся попытки с «экспедиционным корпусом».
Педагоги детского дома были хорошо знакомы со скаутингом, участвовали в скаутском движении, хотя вслух об этом упоминать становилось уже небезопасно. Возглавил экспедицию член Забайкальского филиала Русского географического общества М. И. Союзов. У него была богатая на события биография: заядлый путешественник, фотограф, поручик царской и Белой армий, зав. отделом географии Читинского областного краеведческого музея. Среди педагогов – участников экспедиции был П. И. Налетов, выпускник Читинской учительской семинарии, в годы гражданской войны красногвардеец и партизан, будущий доктор геолого-минералогических наук. Отправились с детьми педагоги В. Н. Фалилеев, А. Чиж и Е. Халфина, а также родственники Жукова, – его дочь Ирина и племянница Людмила Евгеньевна Андрусевич (урожд. Бек), дочь известных забайкальских исследователей и краеведов Е. В. и А. Н. Бек.
Подготовка к путешествию началась заблаговременно, ещё зимой. Дисциплина в отряде сначала держалась на стремлении детей участвовать в экспедиции, так как после трёх предупреждений «юнис» выбывал из числа участников. Первое предупреждение получили шесть человек, второе – двое, третье – никто. Впоследствии Л. Е. Бек вспоминала: «За всё время путешествия не было ни одного случая хулиганства, нарушения дисциплины, была исключительно дружеская атмосфера» [Фалилеев, Педагогическая…, 1923, с. 110].
Для юнисов был разработан краткий устав, введена особая форма, значки. В уставе, в частности, говорилось: «Юные исследователи должны зорко и настойчиво смотреть в великую и таинственную книгу природы, разгадывать одну за другой ее загадки и тайны. Юнисы должны выполнять свои обязанности честно, аккуратно, соблюдая порядок и чистоту» [Фалилеев, Педагогическая…, 1923, с. 110]. В процессе подготовки к экспедиции её участники разделились по интересам на отряды биологов, географов, художников, историков, и овладевали навыками научноисследовательской работы в полевых условиях.
Экспедиция состоялась летом 1923 г. По своему составу, времени проведения, протяженности она была поистине впечатляющей. Участие в ней приняли 32 юниса. Первая часть пути была пешей. Сначала юнисы отправились до расположенного в 59 километрах от Читы минерального источника «Кука», затем добрались до речки Кислый ключ, перешли мост через реку Ингода в районе посёлка Татаурово. Здесь они построили баркас и три лодки, и отсюда начался сплав по рекам Ингоде и
Шилке до старинной казачьей станицы Сретенск, основанной ещё в 1689 г.
Экспедиция была довольно хорошо оснащена. Путешественники имели при себе небольшую библиотечку, включавшую необходимые учебники, справочники и географические карты, а также микроскоп, набор химикатов и геологический инвентарь. Многое из снаряжения было изготовлено при участии детей, а именно, походные костюмы и сумки, папки, сачки, прессы для сушки растений. Естественно, экспедиция находилась на полном самообслуживании. Ребята сами готовили пищу, стирали одежду. Главным содержанием экспедиции была исследовательская работа. Педагоги не стремились преподнести знания в готовом виде, а во время экскурсий и наблюдений давали им пищу для размышлений, побуждали их думать, тем самым прививая навыки исследовательской работы.
Каждый юнис работал над определённой темой, например, способы самозащиты животных, геологическое строение и растительность долины Ингоды, Шилки и т. д. Юные исследователи побывали в селе Ма-кавеево, где в годы гражданской войны находился семёновский застенок. Л. Е. Бек вспоминала: «Туда пошли все отряды вместе, чтобы послушать местных жителей. Хозяин дома, где пленные подвергались пыткам, провёл нас в баню. Там были вбиты крючья, на которых подвешивали пленных, на стенах были большие пятна крови. Все были потрясены увиденным и услышанным» [Фали-леев, Педагогическая…, 1923, с. 112].
Помимо этого, путешественники побывали на Апрелковских золотых приисках, ознакомились с историко-культурными достопримечательностями г. Нерчинска, осмотрели Шивкинские столбы (скалы у села Шивки), и даже раскапывали древние захоронения у села Мирса-ново, расположенного долине реки Шилка. В каждом поселении они стремились узнать его историю. Так, от старожилов они узнали, что Мирсаново было основано приказчиком Городищенской слободы Дмитрием Мирсановым, который построил первый дом. Заимка Мирса-новская была известна уже в 1735 г. К 1764 г. на этом месте существовала целая деревня. Крестьяне были приписаны к Нерчинскому Сереброплавильному заводу. В экспедиции родился лозунг: «Вперед за знаниями для себя и других!». В ходе экспедиции с небольшими докладами и сообщениями по результатам проделанной работы педагоги и ребята выступали в г. Нерчинске, на уездных учительских курсах в поселках Шиванда и Сретенск. По возвращению в Чите они организовали выставку всего того, что они собрали в походе: образцы минералов, растений, фотографии. За 2,5 месяца, проведённые в экспедиции, ребята получили много знаний, и оправдали звание юных исследователей.
Как видно, в движении юнисов на практике были реализованы идеи И. Н. Жукова, разработанные им ещё в 1918 г. для игры «Забайкальский экспедиционный корпус». Педагоги использовали его разработки и практические советы [Жуков, Спутник…,
-
1921]. Жуков, в это время находившийся в Москве, был осведомлён о подготовке, проведении и итогах экспедиции, поскольку участие в ней принимали его дочь и племянница. В движении юнисов нашло своё продолжение скаутское движение, только под другим названием.
Могло ли быть будущее у этого движения? Очевидно, нет. В марте 1923 г. в Чите появилась пионерская организация. В 1924 г. был создан первый летний пионерский лагерь, в котором были и младшие воспитанники детского дома. Тем не менее, старшие ребята, именовавшие себя по-прежнему юнисами, совершили новый поход и сплавились от Сретен-ска по Шилке и Амуру. В Забайкалье наступила эпоха пионерской организации. Судьба юнисов, как и скаутов, была предрешена. По образному выражению исследователя российского скаутского движения Т. Крайнова «белая лилия скаутов сгорела в пламени пионерских костров» [Крайнов, Скауты…, 1993, с. 210].
Вся дальнейшая работа И. Н. Жукова была связана с Москвой. В это переломное для детского движения время он, как уже отмечалось, пошёл на сотрудничество с властью в деле создания новой детской организации. Несомненно, это был не простой для него выбор. Скаутское движение в стране ещё продолжало существовать. Видимо, предвидя скорый запрет скаутизма, как это уже было в ДВР, он не хотел терять накопленный опыт работы по скаутингу и пытался приспособить его к новым политическим условиям.
Скаутское движение в СССР было запрещено в 1923 г. В 1930-е гг.
в обстановке необоснованных репрессий бывшие скауты и скаутма-стеры, ставшие к тому времени партийными и комсомольскими руководителями, были репрессированы «за помощь международной буржуазии».
И. Н. Жуков, вместе со своим другом Валентином Вознесенским, участвовал в работе одного из первых пионерских отрядов, который был организован на базе двух ранее существовавших «юк-скаутских» отрядов (юк – юные коммунисты) (1922). Этот отряд состоял из учащихся опытной школы, располагавшейся в Бауманском районе Москвы, и работавшей при Государственном институте физкультуры. (В этой школе студенты – будущие учителя физкультуры проходили практику).
Именно Жуковым были предложены само слово «пионеры» для обозначения участников новой детской организации, пионерский девиз «Будь готов!» и ответный клич «Всегда готов!», а также, изображение костра на пионерском значке, и сам пионерский галстук в форме треугольного лоскута алой материи. 23 марта 1923 г. Жуков был утвержден членом Главквартиры (центрального бюро) юных пионеров, и ему было присвоено звание «старший пионер РСФСР».
И. Н. Жуков принимал участие в проведении I-го Всесоюзного слёта пионеров (Москва, август 1929). Он был удостоен звания «Народный учитель». Жуков был противником политизации детского движения, и этим объясняется то, что постепенно он отошёл от активной, непосредствен- ной работы в деятельности пионерской организации. В своем дневнике Жуков отмечал: «С 1923 года я отошел от пионерского движения. Кроме того, молодые комсомольцы, знавшие меня лично, прохладно относились к работнику буржуазного скаутского движения и не проявили инициативы привлечь меня ближе к развертывающемуся пионердвиже-нию».
VI съезд РЛКСМ (1924 г.) постановил в резолюции «Об очередных задачах детского коммунистического движения» «отбросить длительную игру как основу методики пионерского движения. В работе необходимо считаться, однако, с особенностями детского возраста и использовать метод игры, коллективного соревнования, воздействуя на чувства ребят» [Товарищ комсомол…, 1969, с. 69]. И. Н. Жуков писал, что термин этот (длительная игра) перестал встречаться в пионерской литературе, и пионерские организации стали рассматриваться как организации, подобные ВЛКСМ и методически стали дублировать школу, включая в свое содержание работу кружков по тем или иным направлениям.
И. Н. Жуков был способен и на совсем неожиданные «проекты». Так, он обратился в Наркомпрос с, как он сам это называл, «сумасбродным проектом невменяемого человека» об «установлении при Нарком-просе и Минпросе должностей Робинзона Крузе и его помощника Пятницы».
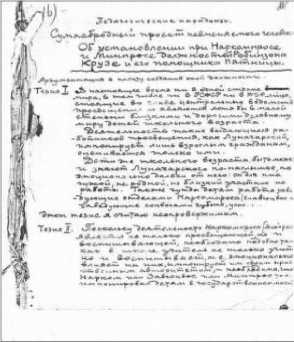
Рукопись И. Н. Жукова
В пользу своего предложения он приводил следующие «доводы»: «Аргументация в пользу создания этой должности. Тезис I. В настоящее время ни в одной стране мира, в том числе, ни в РСФСР, ни в ДВР, лица, стоящие во главе центральных ведомств просвещения, не являются хотя бы в малой степени близкими и дорогими духовному миру детей школьного возраста. Деятельность таких выдающихся работников просвещения, как Луначарский, импонирует лишь взрослым гражданам, оценивается только ими. Дети же школьного возраста, быть может, и знают Луначарского понаслышке, но эмоционально далеки от него: он для них чужой, не родной, не близкий участник их работы. Также чужды детям работа заведующих отделами Наркомпроса (главсоцвос, заведующие соцвосами губоно, уоно…). Этот тезис я считаю неопровержимым. Тезис II. Поскольку деятельность Наркомпроса (Минпроса) является не только просвещающей, но и воспитывающей, необходимо подобно тому, как в школе учитель не только учит, но и воспитывает, т. е. эмоционально влияет на них, импонирует им своим нравственным авторитетом, – необходимо, чтобы Нарком или Завсоцвос или Минпрос так импонировал детям в государственном масштабе…». Понятно, что его предложение, мягко говоря, не нашло понимания в соответствующих инстанциях.
В 1925–1931 гг. И. Н. Жуков – учитель географии в старших группах (классах) школы № 41 Бауманского РОНО г. Москвы. В эти годы он не только «продвигал пионердвиже-ние», но и преподавал географию в школах Бауманского района № 40, 15, 41, школе института физкультуры. Педагог Эльза Яновна Гро-бинь, работавшая тогда в московской школе № 355, и близко знавшая И. Н. Жукова, оставила свои воспоминания о педагоге-новаторе: «У него были свои интересные методы обучения, он учил учеников самостоятельно открывать что-то новое и организовывал увлекательные заочные путешествия по карте мира. Иннокентий Николаевич готовил много интересных наглядных пособий по предмету. Он непринужденно, легко, увлеченно заинтересовывал учащихся своим предметом, проводил интересные внеклассные мероприятия. В своей повседневной работе он учил умению наблюдать, понимать, прививал любовь к природе, развивал пытливый ум, умение самостоятельно вникать и познавать красоту и тайны природы. И. Н. Жуков прекрасно знал детскую психологию, любил детей, поэтому всегда был окружен ими» [Гробинь, Современность…, 1975, с. 11].
«Давая уроки географии в школе, Иннокентий Николаевич увлекал ребят, используя географические игры. «Педагогика – это не ремесло, а творчество, искусство», – замечал он. В школьном зале часто появлялись листовки с заголовками: «Географина, дочь Викторины, предлагает ответить на следующие вопросы: 1. Какие города вкусны по своему названию? 2. Какие реки никуда не впадают? 3. Из начальных букв каких городов можно составить слово «ласточка»?» Географические игры назывались Африканами, Аме-риканами и другими занимательными именами. Ребята очень их любили, тем более, что правильные ответы поощрялись призами.
И. Н. Жуков проводил «Географические бои» между классами. Каждый ученик одного класса должен был написать 3 вопроса. Листочки с вопросами раздавались в другом классе. Ребята не только подбирали ответы, но и в свою очередь придумывали свои вопросы для соперника» [Руденко, Общественно-педагогическая…, 2009, с. 18].
В течение всей педагогической деятельности у И. Н. Жукова возникало много интересных мыслей и предложений о том, как, например, избавиться от шума в классе и сделать его рабочим; как лучше всего проводить школьные экскурсии; как обучать мимике и жестам; как запоминать имена и отчества; как использовать фонетику в археологии, этнографии и истории; как организовать аэроигры или полет в стратосферу; как вести школьные летописи и многое другое. Все эти проекты он поместил в рукописной книжке «Мои затеи и мысли на жизненном пути», ко- торая содержит 57 предложений автора [Руденко, Общественно-педагогическая…, 2009, с. 18].
И. Н. Жуков был неутомим в работе, и самое главное было то, что у него были свои оригинальные методы обучения. Он учил детей самостоятельной работе, организовывал увлекательные путешествия по карте мира. Проводил географические игры, конкурсы, викторины и географические бои между классами. В 1928 г. с целью укрепления интернациональных связей организовал в одной из школ кружок «Всемирных корреспондентов», в котором учащиеся изучали английский, немецкий языки и эсперанто, и писали на этом языке открытки в разные страны, а потом получали ответы от зарубежных эсперантистов.
На одной из конференций работников просвещения в 1928 г. И. Н. Жуков обратил внимание учителей на внутришкольное и межшкольное соревнование, которое, по его мнению, становилось могучим методом в воспитательной работе, и создавало заинтересованность учащихся в ее результатах. В своих педагогических опытах Жуков использовал соревнование как новый метод работы. Он был инициатором организации соревнований и ударнического движения. В апреле 1930 г. на слете просвещенцев Бауманского района И. Н. Жукову была присуждена I премия за его многогранную педагогическую деятельность, а именно за организацию ударнического движения, за работу в качестве председателя местного комитета, за выпуски бюллетеней и стенгазет в школе № 41, за проведение географических игр среди учащихся школы, наконец, за пионерские повести и скульптурное творчество.
В 1933 г. он направил в гороно свое очередное рационализаторское предложение, имея в виду опыт передвижного детского журнала в доме по Товарищескому переулку, где он жил. По квартирам дома, где жили дети в возрасте 6–12 лет, он пустил передвижной детский журнал. Это был альбом для рисования, первая страница которого была оформлена Иннокентием Николаевичем, снабжена предисловием о желательном содержании журнала и маршрутным листом. По две страницы он отвел каждой квартире. Журнал вызвал большой интерес ребят, и все его листы были заполнены их рисунками литературным творчеством. Метод передвижных журналов он использовал и позднее, проводя агитационную работу перед выборами в Советы. Такие «странствующие» журналы он предлагал использовать как литературную форму, которая обслуживала и объединяла бы несколько отрядов или школ.
И. Н. Жуков стал автором увлекательных детских книг, написанных в жанре фантастики, героями которых были пионеры. Тем самым, Жуков стремился популяризировать деятельность пионерской организации. Первая «пионерская» повесть И. Н. Жукова «Путешествие звена Красной Звезды в страну чудес» первоначально печаталась в первом пионерском журнале «Барабан» в 1923– 1924 гг. Но в нём вышла только первая половина книги. Вторая часть была дописана уже после смерти В. И. Ленина (глава «Беседа у костра на крыше»), и вошла в отдельное издание 1924 года [Жуков, Путешествие..., 1924]. Повесть представляет собой своего рода коммунистическую утопию. Пионерское звено из города Лысогорска летом 1923 года (в последующих изданиях – 1924 года), отправляется в поход в лес.
В первый же вечер, устраиваясь на ночевку у лесопильного завода, восемь мальчишек обнаружили странный светящийся люк, который перенес ребят в 1957 год, – в мир победившей всемирной коммуны, где дети Земли, «все как один», стали пионерами. Наши герои встречаются с пионерами-ленинцами звена «Вечный костер», которых зовут так же, как и их, только «задом наперед»: пионер из 1923 г. Сережа Ступин, а пионер из будущего, – Ажерес Нипутс. Пионеры рассказывают друг другу о происшедших за 34 года изменениях в мире. Например, про то, что пламя революционного пожара перекинулось в Германию, Бельгию, Францию, Италию, Англию, Америку… и на всем пространстве земного шара развернулась смертельная и последняя борьба двух гигантов: Труда и Капитала. Несколько лет прошли в героической борьбе, и теперь красными знаменами, как цветами, украсилась вся Земля, а великий Союз Советских Социалистических Республик, вобрал в себя добровольно все народы земли и превратил ее в мирную, мировую, трудовую коммуну. Коммунистический Союз Молодежи и пионерское движение распространились по всему миру и насчитывают в своих рядах миллионы ребят, охваченных пламенным стремлением помочь в борьбе и строительстве своим отцам и старшим братьям. Герои повести посещают Всеуральский слет, на котором они встречаются с южноамериканскими пионерами-ленинцами из Бразильской Советской Республики, которые собрались «обследовать Африку».
Пионеры из будущего рассказали пришельцам из прошлого о своей жизни и устроили экскурсию по СССР. Ребятам представился мир «светлого будущего» со всеми его техническими достижениями: огромные города с высотными зданиями из стали и двойного стекла, фантастическая пища и высокоразвитая техника; медицина, научившаяся побеждать и предупреждать болезни; наконец, приветливые люди, которые научились использовать лучевую энергию и управлять радиолетами. К тому же, в будущем особенно развит язык эсперанто, который стал вторым родным для миллионов пионеров СССР. В итоге, «путешествие» оказывается коллективным сном. Дети, проснувшись, помимо прочего, делают такой вывод: «А всё-таки это скверно, что мы не знаем языка эсперанто, ведь для международных съездов он незаменим!».
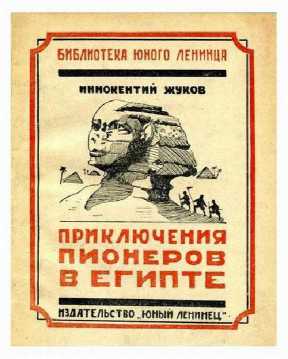
Книга И. Н. Жукова
Другая повесть, «Приключения пионеров в Египте», вышла в 1926 г. в вышеупомянутой серии. Через два года она вышла под названием «Мертвый огонь. (Приключение юных пионеров в Египте)». (М.–Л., 1928, 111 с.). Она была написана в жанре распространенного сейчас сиквела, т. е. продолжения ранее написанного, и представляла собой популяризацию идеи длительной игры. Автор знакомит с далеким прошлым Египта, политической, экономической жизнью его народа, и одновременно, исподволь, незаметно разъясняет читателям законы юных пионеров. Действующие лица те же, что и в первой повести, – пионерское звено «Красная звезда» и собачка Шарик. И снова они оказались в том же самом волшебном Кайдаловском лесу. Только теперь они путешествуют в прошлое, в Древний Египет. Пролетая из СССР в Египет, они вспоминают историю: над Крымом, – про Перекоп и освобождение полуострова от белогвардейских войск Врангеля; потом про то, чем занимаются жители Крыма, – «татары и русские», – в мирное время, а также про то, что это всесоюзная здравница и т. д. То же самое и с заграницей: какие государства встречаются на пути в Египет, чем знамениты и прочее. Здесь добавляется еще и своего рода политинформация, – про то, как стонут рабочие и крестьяне, которые еще не сумели организоваться и сбросить с себя ярмо капитала.
И вот перед пионерами Египет! Приключение перестает быть безопасным: пионеры становятся разведчиками: галстуки спрятаны, – точ- нее, повязаны под рубашкой, а самолет закопан в песок. Дальше идет рассказ о современном Египте, оккупированном англичанами; пионеры знакомятся с экономикой, природой и политическим строем. Во время пешего похода юные советские пионеры идут через пустыню, а во время привала на поляну, где они расположились, неожиданно приземляется аэроплан новейшей конструкции. Седой пилот представился французом-археологом Гастоном Масперо, исследователем Египта. Он пригласил ребят отправиться с ним в необычное путешествие, – в Египет времен фараонов. В сопровождении этого знаменитого египтолога, которого они запросто называют «дядя Масперо», ребята совершают путешествие в Древний Египет. И вот они уже во времена фараона Рамзеса II. Но все заканчивается хорошо, и пионеры просыпаются у костра, в Кайдалов-ском лесу. Оба литературных произведения представляли собой умелую популяризацию идеи и, по существу, готовые сценарии длительной игры.
Жуков стремился привлечь своих учеников к изучению языка эсперанто. Это искусственный язык, разработанный поляком Людвиком Лазарем Заменгофом (1859–1917), который верил, что его изобретению принадлежит будущее. Некоторые произведения И. Н. Жукова издавались в переводе на эсперанто, иногда, – с параллельным текстом на русском языке.
И. Н. Жуков никогда не оставлял ваяние. По оценке Луначарского он «достигал насыщенности в выражении глиной человеческих эмо- ций». Его работы находились на территории Центрального парка культуры и отдыха им. А. М. Горького, на площади около завода «Динамо», в музеях Наркомпроса и Осовиахима, на выставках. И. Н. Жуков пропагандировал в скульптуре идею детского коммунистического движения, создавая монументальные образы пионеров и октябрят. I-му Всесоюзному слету пионеров Иннокентий Николаевич посвятил скульптуру «Октябренок», которая в день закрытия слета появилась на страницах «Пионерской правды». О ней и другой работе под названием «Октябрята» Иннокентий Николаевич писал: «Придет день, когда меня не станет, а дело моих рук, – веселые, жизнерадостные октябрята будут радостно приветствовать героические события и подвиги первой пролетарской столицы мира, а с ними и я, не существующий, и в этом моя радость» [Парад скаутов, 1921].
Скульптурное творчество Жукова в то время было уже широко известно. Он создал около тысячи произведений, и работы его неизменно находили благодарный отклик. В дневнике 1932 г. он описывает забавный случай, свидетельствующий о его популярности. Однажды во время поездки он лепил в вагоне из кусочка глины. Это помогало ему скоротать время. Ехавший с ним пассажир заметил: «Это очень талантливо, но, извините, у вас есть один недостаток: Вы подражаете Иннокентию Жукову». На это Жуков ответил: «Ну, это не такой уж большой недостаток. Иннокентий Жуков – мой близкий друг, и всю жизнь я ходил в его штанах и в его обуви».
Его скульптуры представляли собой также портреты и жанровые сценки, были полны любви к людям и иронии. Вместе с тем, в них он иногда высмеивал также людские пороки и пошлость. Так, на одной из скульптурных композиций он изобразил двух старушек, с интересом следящих за соседкой; внизу подпись: «С кем это она там гуляет?». Многие скульптуры имели такие шуточные надписи. Отличительными чертами его работ была исключительно точная передача внешних особенностей и внутреннего мира персонажей. Для достижения этой цели скульптор осуществлял тщательную проработку всех деталей. При этом он уделял особенное внимание голове и лицу своего героя, глаза которого были всегда открыты и неизменно отражали индивидуальность и характер.
В военные годы Жуков, находясь в эвакуации, стал делать из глины оригинальные курительные трубки в форме забавных физиономий или карикатурных изображений фашистов. Скульптор отправлял эти трубки на фронт и получал в ответ письма от бойцов с благодарностью. Солдаты отмечали, что весёлые трубки Жукова поднимали боевой дух и вызывали желание ещё сильнее бить врага.
Произведения Жукова хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Пензенской картинной галерее, художественных музеях г. Иваново, в Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачёва, в художественном и краеведче- ском музеях г. Читы. Жуков был членом Московской организации союза художников СССР.
В 1931 г. Жуков вышел на пенсию. По ходатайству Пролетарского районного комитета ВКП(б) г. Москвы, поддержанном Н. К. Крупской, ему была назначена персональная пенсия. 23 июня 1931 г. он получил почтовую карточку от Н. К. Крупской с предложением о встрече в Наркомпросе. По предложению Крупской он стал сотрудником отдела разработки школьных учебных планов и программ Государственного ученого совета Нарком-проса РСФСР. В этом же году вышла его книга «Начинающий скульптор» [Жуков, Начинающий…, 1931].
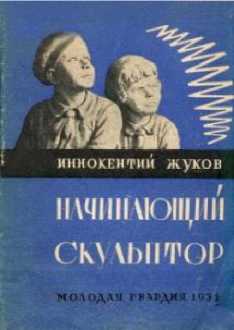
Книга И. Н. Жукова
В 1940 г. на встрече в ЦК ВЛКСМ он предложил вернуться к методике системы скаутинг; в ноябре того же года он работал над проектом «Положение о Детской коммунистической организации им. В. И. Ленина», которое было принято за основу в работе с пионерами всей страны. И. Н. Жуков вел активную переписку с французским писателем Роменом Ролланом. В августе 1940 г.
встречался со знаменитым полярником, Героем Советского Союза Константином Сергеевичем Бадигиным (1910–1984).
В начале Великой Отечественной войны Жуковы были в эвакуации в г. Губаха Пермской области, но уже летом 1942 г. они вернулись в Москву.
С 1895 г. И. Н. Жуков был женат на землячке А. И. Рындиной (1878–1935). Она работала учителем русского языка и литературы. В 1908 г. за революционную деятельность была арестована, но при этом она не расставалась с 2-месячной дочкой Ириной.
В 1908–1917 гг. основанное ею издательство выпускало открытки с изображением скульптур мужа. У Жуковых было четверо детей: Георгий, Ирина, в замужестве Жукова-Плотникова, педагог и хранитель отцовского наследия; Вадим – врач отоларинголог (орпатолог) и Вероника, в замужестве Обухова, художница [Александрова, Савельев].
В 1945 г. И. Н. Жуков был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1941 г. он поступил в университет марксизма-ленинизма, но в годы войны обучение пришлось прервать, и университет он закончил в 1946 г. В 1946 (1947?) г. он занялся составлением «Хроники рода Жуковых». Его дети получили завещание продолжить ее.
Страшный удар обрушился на него в октябре 1946 г. В мастерскую забрались хулиганы и превратили в груду обломков всё то, что создавал он последние 15 лет. Было уничто- жено более ста работ мастера. Попытки восстановить мастерскую успехом не увенчались. А потом болезнь приковала его к постели.
В день своей кончины 5 ноября 1948 г. Иннокентий Николаевич попросил написать на его надгробной плите следующие слова: «Любите Родину, боритесь за нее и будьте первыми в труде!» Это завещание адресовано внукам, потомкам, которых И. Н. Жуков мечтал видеть сильными, крепкими, умеющими не теряться ни при каких обстоятельствах. И. Н. Жуков умер в Москве, похоронен на 23-м участке Введенского кладбища.
Заключение . И. Н. Жуков ратовал за систему, «очищенную» от политических, идеологических наслоений. Он пытался совместить «новую идеологическую политику» с идеями рыцарства, и многое, на уровне конкретной группы детей, получалось. Его идеи были, в целом, востребованы при его жизни, но они остаются таковыми и по сей день. Сейчас, когда российское общество находится в поиске аксиологических идеологических ориентиров, которые бы могли быть использованы в воспитании подрастающего поколения, обращение к опыту И. Н. Жукова представляется более чем своевременным и обоснованным. Иннокентий Николаевич предложил название пионеры , которое немедленно прижилось на многие годы2.
Ценным в наследии Жукова представляется и то, что его идеи находили адекватную методическую проработку, т. е. были вполне реализуемы в обычной школьной практике. Обстоятельства жизни замечательного скаутмастера, широта его интересов, неистощимое стремление к постоянному совершенствованию своей работы, – все это служит замечательным примером для современного поколения российских педагогов.


