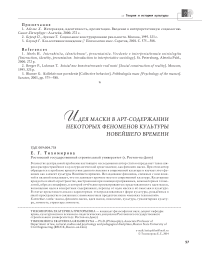Идея маски в арт-содержании некоторых феноменов культуры новейшего времени
Автор: Тихомирова Екатерина григорьевнА.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (61), 2014 года.
Бесплатный доступ
В качестве центральной проблемы настоящего исследования автор статьи определяет такое широко распространённое в культурологической среде явление, как феномен маски. При этом автор обращается к проблеме присутствия данного явления в современной культуре и изучает этот феномен как элемент культуры Новейшего времени. Исследование феномена, смежных с ним понятий и явлений показывает, что он занимает прочное место в современной культуре. Культурные продукты в smart-пространстве, выстроенном при помощи программных, компьютерных технологий, обрели специфику, в которой отчётливо просматриваются: представленность идеи маски, воплощение идеи в конкретных содержаниях, переход от идеи маски к её смыслам в культуре. В статье представлен анализ характерных «театрализованных» форм культуры, рождённых в smart-пространстве и связанных с ними масочных продуктов эпохи «высоких технологий».
Маска, феномен маски, идея маски, поколение, культура, гуманитарная культура, личность, структура личности
Короткий адрес: https://sciup.org/14489859
IDR: 14489859 | УДК: 009:004.738
Текст научной статьи Идея маски в арт-содержании некоторых феноменов культуры новейшего времени
тиХомирова екатерина григорьевна — кандидат философских наук, доцент кафедры права, культурологии и психолого-педагогических дисциплин ростовского государственного строительного университета (г. ростов-на-дону)
TiKhomiRova eKaTeRina gRigoRievna — Ph.d. (Philosophy), associate Professor of department of law, cultural studies and psychology and pedagogical disciplines, Rostov State University of civil engineering (RSUce, Rostov-on-don)
L
-
E. G. Tikhomirova
Rostov State University of civil engineering (RSUce), The ministry of education and Science of the Russian Federation, Sotsialisticheskaia str., 162, Rostov-on-don, Russian Federation, 344022
idea oF a maSK in The aRT-conTenT oF
Some Phenomena oF modeRn hiSToRy
The main study object of the article is the phenomenon of a mask — the ability of an individual to create temporary (external or internal) changes of their internal world or appearance. The study of this phenomenon and related concepts shows that it is one of the bright and characteristic features of modern cultural space. cultural products in smart-space constructed with the help of software, computer technologies of modern days have acquired the specificity which clearly demonstrates: the representation of the idea of a mask, its implementation in specific cultural products, transfer from the idea of mask phenomenon to its meanings in culture. The article presents the analysis of characteristic forms of culture that originated in smart-space and the connected mask products of the era of «advanced technologies». Keywords: mask, phenomenon of a mask, idea of a mask, generation. culture, humanities culture, personality, personality structure.
культура как специфический способ «возделывания» человеком бытия обрела иные очертания в современной эпохе: появились алгоритмизированные технологии и методики создания культурных «миров», культурных продуктов и самого человека, его личностного конструкта, в которых нашла своё место идея маски.
маска как идея — это культурная форма, заключающая в себе способность субъекта творить поверхностные, временные изменения внутреннего или внешнего облика, действительности; прообраз, обусловленный мотивами и потребностями, а также целями, интересами и коммуникативными ожиданиями субъекта [4]. маска есть неотъемлемая часть бытия, модифицируемая модель действительности, модель, подчёркивающая изменчивость культуры, модель, реализуемая в законе преемственности (посредством передачи смыслов от эпохи к эпохе, от поколения к поколению).
маска должна быть проанализирована как неотъемлемая часть сущности человека, а следовательно, часть культуры — творческая деятельность по созданию личностного конструкта [4]. воплощение идеи маски возможно исследовать через арт-содержа-ние некоторых феноменов smart-культуры (от англ. smart — «умный»). к таким фено- менам стоит отнести: смартмобы, флешмобы и другие разновидности квазитеатраль-ных, игровых массовых акций (монстрации, хеппенинги и пр.).
«флешмоб» в дословном переводе с английского языка — «мгновенная толпа». по содержанию — это массовая акция, проводящаяся по ранее подготовленному плану, требующая от участников соблюдения ряда чётких правил. среди главных — отсутствие политической, экономической (в том числе, рекламной) подоплёки, внезапность, децентрализованность (осуществление без руководства), соблюдение правил общественного порядка, поддержание чувства комфорта у окружающих, наличие костюмов и масок для идентификации (выделения из зрительского окружения), отсутствие логических объяснений действиям участников.
Целей проведения таких акций много. главные среди них: ситуативная деструктуризация смысла повседневного бытия (нарушение стереотипов поведения); вызов у зрителей синтеза чувств — неприятия, сочувствия и др., ощущения причастности единичного к целому; получение эффекта «психотерапии» (дабы побороть страх застенчивости), новых эмоций; желание произвести впечатление на других, познать себя и свои возможности.
движение флешмоберов оказалось весьма популярным (например, прокатившийся в 2013 году по миру harlem Shake («спонтанный» танец), был снят на видео во многих странах и опубликован). так, в движении мобберов нашёл своё отражение тренд глобализации культуры — переход культурных ценностей через государственные, политические, экономические, этнические и лингвистические границы. популярность флешмоба выразилась и в лингвистическом сопровождении, что ясно обозначило становление феномена культуры, так как нет творения культуры без языка, как и динамики языка без культуры.
флешмоб-движение обзавелось собственным словарём терминов для обозначения участников, ролей, видов сценария, атрибутики, зрителей («афтерпати» — общение после акции; «камертон» — часы, по которым сверяют время акции; «маяк» — человек, появление которого означает начало действия; «площадка» — место действия; «пингвин» — знающий об акции, но не принимающий в ней участия и т.п.).
флешмобы могут быть классифицированы следующим образом: политические (например, «белые ленточки против» — редки и не приветствуются классическими флешмоберами), социальные («за права человека» и пр.), «неспектакльные» (изменение бытия бытием — без костюмов, без манипуляции зрителями, повторение обычных действий, незаметных для других, не нарушающих профанную среду), i-мобы (действия внутри сети интернет, влияющие на действительность, — голосования, обсуждения и пр.), арт-мобы (действия с эстетической оценкой, но отличные от перформансов, в которых необходимо присутствие автора-творца — например, йоко оно, ив кляйн и пр.), дестройер-мобы (флешмоб с негативной окраской — вмешивает зрителей в действие, например, «бой подушками»), рекламные мобы («спонтанные» действия, направленные на получение прибыли — например, драка при свидетелях, «случайно»
снятая на камеру и пр.), длинные мобы (росписи граффити по городу и т.п.), фаршинги (отчасти флешмобы — спонтанны и происходят на публике, однако проводятся для преодоления участниками кризисов личности) и множество других видов.
основания становления флешмоб-движе-ния необходимо искать в других культурных феноменах. первым источником стала сама культура, которая порождает механизмы представленности себя в разнообразных творческих выражениях, деятельности своего субъекта — человека; вторым источником выступают психические процессы человека — чувства, эмоции, интерес, потребности и ценности [5], третьим источником становления флешмоб-движения является пространство, созданное человеком в дополнение к природному, — виртуальная реальность.
именно интернет стал точкой пересечения координат для рождения феномена «умной толпы». человечество, создав smart-пространство, интернет и технические устройства коммуникации, стало использовать их для организации деятельности. в результате произошла «социальная революция» в виртуальной реальности — smart-революция, создающая smart-пространство, населённое «умной толпой» [3] и способное на конкретные действия, перенесённые из виртуальности в действительность.
флешмоб-движение имеет более ранние исторические прототипы — народные шествия во время праздников, карнавальные действа и пр. современная же форма театрализованного, но бессюжетного движения обрела специфику благодаря техническим особенностям культуры. в smart-культуре организация и создание временных общественных структур осуществляются через высокотехничные устройства и беспроводные коммуникационные сети. другими словами, техника породила иное по запросам и способностям их выполнить поколение (остаётся надеяться только, что это не «гора родила мышь»), которое смогло организовать- ся — создавать сообщества, реализовывать некие цели, развёртывать их в определённые модели поведения. Это новое поколение ведёт себя иначе предыдущих — более активно, динамично, организованно, потому что создание новых технологий и их удешевление способствуют взаимосвязям, которые осуществляются посредством беспроводных принципов — больше не надо ходить по улице, чтобы прийти в гости, больше не надо догадываться о мимике собеседника, слыша только его голос по телефону. можно войти в созданное компьютерными программами пространство, увидеть, услышать друг друга, поставить или решить любые проблемы.
люди объединились в «умное» — smat-поколение, объединённое интеллектуальными запросами (по большей части, к базам информационных данных, а не к типам духовности) и налётом рационализма (желанием измерить, исследовать, создать, сохранить и транслировать). феномены типа флешмоба оказались на пике популярности в современной культуре именно по вышеперечисленным причинам — комфортности коммуникации, удешевлению коммуникационных устройств, возможности быстро создавать, публиковать информацию и получать эмотивный ответ.
с другой стороны, те действия, которые организуются smart-поколением (флешмобы, монстрации и пр.) для достижения коллективных целей (например, политических протестов, эпатирующих психологических сцен, абсурдных манифестаций и пр.), выступают в качестве обозначения себя как нового субъекта в новом алгоритмизированном мире.
видами таких выражений является рассмотренный выше флешмоб, а также перформанс, хэппенинг, флуксус, «критическая масса» и монстрация — так называемый паблик-арт («публичное искусство» — массовые эстетические акции, организованные при помощи сми и, прежде всего, по технологии с использованием беспроводных коммуникационных сетей).
перформанс и хэппенинг — квазитеат-ральные представления, полные масок как подмен времени, пространства и истинных лиц, — появились несколько раньше флешмобов. Эти явления проходили становление в середине XX века. они оказались связаны друг с другом своей эстетической сущностью — присутствием автора: художника, музыканта, поэта и пр.; а также своей эстетической направленностью — вызывать у участников и зрителей комплекс положительных или отрицательных ярких чувств и эмоций, необходимых для обострения восприятия реальности во всей её полноте. перформанс и хэппенинг имеют общие с флешмобом черты: по массовости организации, по целям организации — почувствовать свободу от распространённых поведенческих стереотипов, получить новый эмоциональный опыт, произвести впечатление на друзей и окружающих, почувствовать «плечо» через взаимодействие с концептуально близкими людьми.
перформанс более чётко организуется, по сравнению с хэппенингом. в организации перформанса учитываются время, место, личность автора и возможная реакция зрителей. в истинном перформансе присутствует искусство — выставленная на обозрение в особом месте скульптура или картина; исполненное музыкальное произведение. современные же формы могут лишь иметь претензию на искусство, являясь лишь творческим выражением авторской мысли. самыми известными в истории новейшей культуры стали следующие перформансы: «в постели в защиту мира» (йоко оно и джон леннон — «делайте любовь, не делайте войну»), «отрежь кусочек» (йоко оно сидела на стуле, на сцену поднимался зритель и отрезал кусочек одежды, так происходило до тех пор, пока она не осталась обнажённой — с «чистой и праведной душой»), разнообразные представления Энди уорхола, криса Бурдена, олега кулика (человек притворялся собакой: будучи обнажённым, был привязан к дереву и кусал про- ходящих мимо людей). Без ощущения иллюзии, нереальности происходящего смотреть на перформанс невозможно — он может вызвать полное отрицание и неприятие. маски концепций перформанса, которые принимает на себя действительность, помогают зрителю адаптироваться к ситуации, в которую он попадает.
Хэппенинг — театральное представление без сюжета, осуществляемое «спонтанно». на самом деле, хеппенинги, как и перформансы, флешмобы и другие организованные действия субъектов iT-культуры, имеют более или менее чёткую структуру, время и место действия, одного или нескольких устроителей. спонтанность проведения касается только зрителей, реакций которых на те или иные действия ожидают организаторы хеппенинга.
чаще всего эти мероприятия проводятся с целью общественного эпатажа, иногда рекламы, социального протеста и пр. организаторы хеппенингов пытаются решить «высокую» задачу — убрать границы между художником и наблюдателем, вовлечь в творческие акты всех субъектов (что с успехом делает производная smart-культуры — социальная сеть [4]). подобные акции проводились и в более ранние времена, например выставки сюрреалистов (зрители проходили на показ работ дали через общественный туалет), биеннале с поливанием зрителей водой для имитации дождя, использование запахов, звуков, прикосновений — всего того, что даёт ощущение прямого участия. среди известных устроителей таких представлений й. Бойс, а. капроу, Ж. лебель, дж. кейдж.
ещё одним арт-актом «спонтанного» совершения с чёткой организацией, массовым вовлечением зрителей является флук-сус. так же как и хэппенинг, и перформанс, флуксус возник на заре становления smart-культуры — в 60-х годах XX века (один из родоначальников — джордж мациюнас), когда средства массовой информации (тв и газеты) способствовали достижению целей
(эпатаж, «стирание границ» между автором и зрителем для расширения восприятия и пр.) устроителей квазитеатральных представлений. флуксус — богатое содержанием представление, использующее мимику, жесты, танец, стихи, музыку, живопись и другие действия и формы искусства.
однако существуют не только арт-пред-ставления. также новейшая культура выразила себя и в спортивных представлениях с якобы внезапной организацией, «случайными» участниками, в «случайном» месте и в «случайное» время. коммуникационные беспроводные сети помогают собираться вместе большому числу людей не только с эстетическими потребностями, но и с потребностями в выражении политических, социальных мнений, а также с целью удовлетворения, например, спортивных интересов (например, встречи фанатов спортивных команд) и т.п. как раз к таким мероприятиям относится «критическая масса» — движение велосипедистов, которые собираются вместе (благодаря предварительной договорённости о встрече в беспроводных коммуникационных сетях), дабы показать окружающим значимость здорового образа жизни и обозначить администрации населённого пункта проблемы велосипедного движения (отсутствие дорожек для велосипедного транспорта, парковок и пр.).
здесь также реализует себя идея маски на разных уровнях: во-первых, на уровне организации акции — «внезапность», «случайность»; во-вторых, на уровне концепта — общество получает представление о «здоровом образе жизни», «чистом» городе, «доброжелательном поведении к участникам движения» в виде знаковой акции; в-третьих — в виде оформления самой акции — экипировки, плакатов и пр. существует точка зрения, что «критическая масса» — протестное движение (за права приверженцев некоего образа жизни или протест против каких-либо экономических, политических явлений), однако организаторы настаивают на том, что это «случайные» встречи, а не митинги, что позволяет не запрашивать у муниципальных властей разрешение на их проведение.
монстрация — ещё один вид массовых, масочных «спонтанных» акций, организуемых при помощи современных коммуникационных технологий. монстрация — маска демонстрации — арт-демонстрация. из слова «демонстрация» идеологи движения убрали приставку «де», которая с их точки зрения несла негативные эмоции (подобно «деконструкции», «деградации» и т.п.). то есть даже слово претерпело масочные изменения — произошло вторжение в этимологическую область. монстрация оказалась концептуально близка постмодернистским концепциям об играх слов, желанию разрушить власть языка, так как участники довольно остро играют со смыслами, лишают этих смыслов стереотипные фразы, создают новые лингвистические формы.
действующие лица монстраций используют внешние формы, дополняющие слова и смыслы, — специальную специфическую одежду — костюмы, а также ролевое поведение (согласно своим костюмам и надписям — «супергерои» «спешат» на помощь; участники обнимают деревья, становятся на колени перед светофорами и т.д.).
таким образом, монстрация приобрела черты маскарада — по вовлечённости людей, по костюмным и поведенческим сюжетам. интересно сравнение монстраций с демонстрациями периода ссср отечественной истории — те же транспаранты, та же экипировка (элементы одежды, головные уборы, украшения автотранспорта — тот же маскарад, та же идея — представить концепт в лубочной форме), однако игры со словами при проведении монстраций, при всей своей абсурдности, имеют более высокий информационный отклик у участников, а также позитивную эмоциональную реакцию.
транспаранты, которые используют участники монстраций, — маски речевой коммуникации. плакаты, таблички со слогана- ми (часто бессюжетными, бессмысленными фразами) и пр. — средства связи со зрителями. то, что держат в руках участники акции, выступает в качестве арт-объекта, средства выражения некой концепции (протеста, социального эпатажа и др.), средства выражения своей личности. участникам обычно известно только время и место действия, а общая идея остаётся чистой импровизацией.
«умная толпа» учится создавать идеи внутри smart-пространства и реализовывать их в действительности. так, сеть постепенно перестаёт быть «библиотекой» — хранилищем информации и «телефоном» — местом простого обмена данными; сеть выходит в мир, создав smart-пространство для живущего в нём smart-поколения [3].
определяющим способом бытия для нового поколения стали технические привычки — представить себе жизнь без «умных» устройств и компьютерных сетей новым субъектам невозможно. сокращение затрат времени на общение, обмен данными, открытость для любого рода информации, возможность высказать мнение (если оно, конечно, есть) в любое время в любом месте, комфортность (быстрый доступ и выход из беспроводных сетей) — всё это формирует привыкаемость — принадлежность к определённому алгоритму поведения, формированию потребности действовать и чувствовать определённым образом. успешность того или иного заведения (гостиницы, пункта питания, библиотеки и пр.) теперь зависит от наличия в нём беспроводной бесплатной системы связи и скорости обмена данными. человек хочет удовлетворять потребности, сформированные высокотехнологичной средой. и чувствует дискомфорт, если это невозможно [2]. Банальное отключение электричества способно вызвать социальную панику, потому что это лишает людей доступа в сеть — смысла пребывания smart-поколения в smart-культуре.
появляются новые ценности и блага, меняются способы межличностной ком- муникации, методологии творчества и труда, управления и организации. чтобы найти партнёра для дружбы или любовных взаимоотношений, больше не надо ходить в парк, музей или клуб. можно совсем не выходить на улицу. достаточно нажать несколько клавиш, создать анкету в сетевом сообществе для знакомств или сетевом объединении по интересам, и искомое будет найдено. другой вопрос — окажутся ли такие отношения искренними, истинными? потому что люди склонны надевать множество масок, вступая в сетевую коммуникацию. в сети совсем необязательно показывать истинное лицо — то, как выглядишь, чем занимаешься, что чувствуешь. компьютерные алгоритмы smart-пространства предоставляют слишком большое поле для творения себя, своего Я. люди теперь «делают» себя — добавляют в изображение то, чего им не хватает во внешности или, наоборот, убирают лишнее. то же самое касается интересов, качеств личности, деятельности — всё можно изменить по желанию. противоречие в том, что это делает человека способным казаться, а не быть. маска в межличностной коммуникации smart-культуры, таким образом, занимает приоритетное положение [4].
методы творчества также изменились значительным образом — прежние формы приобрели новое содержание. технологии работы с изображением, благодаря компьютерным программам и устройствам, стали качественно иными: появилась возможность снимать «километры» видео (раньше существовал «метраж» плёнки, теперь цифровые способы записи, хранения и передачи снимают для видеоматериалов любые органичения). то же касается и искусства фотографии — фотохудожники могут улучшать качество снимков с помощью специальных программ, накладывать любые све-то- и цветофильтры, а также возвращать фотографии исходный вид, что в прежних технических условиях было невозможно — фотография делалась раз и навсегда. прежде испортить фотографию можно бы- ло ещё во время съёмки, теперь только эстетическое чувство фотохудожника (скорее, его полное отсутствие) может это сделать.
коллаж и рисунок (как комикс и карикатура) приобрели новые возможности в smart-пространстве — появилось множество новых форм и техник. совмещение фотографий, репродукций живописных произведений, рекламных постеров — всё это превратило коллажирование в вид массового искусства. любой может попробовать свои силы, добиться признания и популярности (а также финансового успеха — продав заинтересованным компаниям свои работы) при публикации в сети.
сфера сетевого, компьютерного творчества оказалась насыщена масками: во-первых, создаётся больше иллюзий, симуляций произведений искусства, чем истинных артефактов (потому что сложно создать и увидеть особое, индивидуальное, оригинальное среди масок-повторов с низкой эстетической ценностью); во-вторых, остро стоит проблема авторства — тяжело утвердить свои права на произведение в атмосфере всеобщего доступа к ресурсам и техническим навыкам — всё принадлежит всем, а следовательно — никому. у автора сетевого искусства нет лица, а есть только множество масок [4].
труд и хозяйственная деятельность также претерпели изменения в smart-пространстве. обучение, оплата труда, купля-продажа, документооборот — всё это оказалось вписанным в программные алгоритмы специальных приложений для банковской сферы, системы налогообложения, государственных услуг, работы многочисленных предприятий, специфики производства и пр. Библиотеки и музеи, филармонии и театры, учебные заведения, отрасли лёгкой и тяжёлой промышленности — все они оказались включёнными в сеть, в динамику smart-культуры.
всё время теперь можно превратить в рабочее, благодаря новым технологиям, — необязательно лично посещать присутствен- ные места для получения информации, документа с подписью и пр. то, что решения могут быть приняты в любом месте, позволило отказаться от прежнего бережного отношения ко времени, которое наблюдалось у предыдущего поколения. можно работать (или не работать) круглосуточно. многие процессы можно повернуть вспять, изменить, исправить, переписать. так произошло разделение физического местопребывания и времени сетевого — если люди принимают участие в общении и деятельности, значит, присутствуют (и неважно где — лицом к лицу или на расстоянии километров); проблемы опоздать почти не существует.
и, самое главное, организованные в рамках беспроводной сети действия стали возможными во всех сферах культуры, а не только в сфере развлечений. так, от игры в связь двух субъектов, использование коммуникационной техники и технологий переходит в область творения норм и ценностей новой культуры и нового субъекта — посредством включения во все сферы человеческой жизнедеятельности [3].
новые условия, однако, не всегда позволяют действовать во благо. с одной стороны, люди, которые раньше находились в острых противоречиях друг с другом, оказались в ситуации возможного сотрудничества. так проявила себя глобализация — стирание государственных, экономических, политических, расовых, классовых границ продолжилось благодаря новым технологиям. вместо прежнего пространства с таможенными, экономическими, государственными ограничениями появилось smart-пространство с призрачными границами в виде технических несовершенств (устранимых со временем). с другой стороны, отсутствие границ обозначило проблему сетевой безопасности, потому что безграничность оказалась актуальной для преступников и мошенников, наблюдающих за частной жизнью (и публикующих украденную информацию), тех, кто ворует средства с банковских счетов, тех, кто пытается манипу- лировать массовым сознанием в политических, религиозных, рекламных и прочих целях (заставить паниковать, заставить что-то купить или продать, вынудить пропустить важную информацию и т.п.).
государственный тотальный контроль, которого боялись антиутописты (или желали утописты), в условиях реальностей smart-культуры оказался детской сказкой, которую сменила реальность сетевого контроля. Smart-человек создал сеть, в которую попав раз, выйти не смог — любые данные, однажды размещённые, хранятся и транслируются не только создателями, а всеми, кто может получить к ним доступ. информация позволяет использовать нас как целевую аудиторию для различных рекламных, политических и пр. действий; наши данные, нам не принадлежащие, — наш лик в новом пространстве.
в этом пространстве появляются «города» (сетевые сообщества), организационная структура которых предполагает наличие инициативы включённых в неё субъектов, моментальность использования данных и некое право собственности. связь всех со всеми стала причиной появления новых социальных форм — интерактивных сетей, называемых «социальными». имеющиеся государственные законы о собраниях, вероятно, будут пересмотрены в связи с данным феноменом. потому что доверие и сотрудничество, общение и встречи теперь осуществляются принципиально иначе — высокотехнично. по сути, культуру традиционную настигла революционная волна, пришедшая из области разработки высоких технологий. внешние государственные институты должны будут измениться, чтобы вписаться в новое пространство.
познавательные технологии, появившиеся в рамках smart-культуры, совмещают в себе внешние технологии и особые интеллектуальные навыки. человек становится действительно другим — продуктом биоин-жениринга, совмещающим в себе и технику, и человеческое. осознанное обладание знаниями в этой области способно помогать движению культуры. так, люди должны понимать, какую выгоду может дать объединение, доверие и сотрудничество в рамках высокотехнологичного сообщества. культура формирует новые методы коммуникации, которые помогают человеку использовать «умные» устройства и сети, но в основе которых всё же лежат генетически заложенные в человеке механизмы адаптации, и прежде всего альтруизм. Щедрость, признательность, доверие — основные черты личности, которая способна принимать участие в творении smart-пространства.
в середине XX века учёные предостерегали (Ж. Элюль, м. фуко) о том, что техника опасна для человека, как и любая методология культуры, основанная на автоматическом выборе, искусственности, стремлении преобразовать мир в алгоритмы дейст- вий. крайне нежелательно заполнять жизнь только рациональным, когда человеку присуще испытывать нерациональное — любовь, веру, надежду. человек действительно оказывается сегодня не в состоянии защитить экзистенциальные ценности и блага от математического моделирования, исследований, аудита. основания жизни, «химия» чувств и мыслей стали сегодня объектом внимания техники — слепой силы, способной разрушить цивилизацию. и эти объекты человеку необходимо оберегать, дабы вместе с техническим прогрессом не утратить их навсегда. вероятно, что с появлением новых средств связи человеческая сущность обогатится, а не растеряет то лучшее, что в ней есть [3]. примеры арт-феноменов, содержание которых проанализировано в данной статье, говорят в пользу данного предположения [4].
Список литературы Идея маски в арт-содержании некоторых феноменов культуры новейшего времени
- Гройс Б. Московский романтический концептуализм//Утопия и обмен. Москва, 1993.
- Ломова Н.В. Механизм морально-психологического взаимодействия//Сборник статей конференции «Наука и культура XXI века». Ростов-на-Дону: Изд-во РАС ЮРГУЭС, 2008.
- Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2006.
- Тихомирова Е.Г. Идея маски в гуманитарной культуре Новейшего времени: монография. Ростов-на-Дону: Изд-во РГСУ, 2012.
- Титова Е. Основные формы, механизмы, закономерности развития индивидуальности в процессе профессионализации//Сборник научных статей кафедры философии, социологии и психологии. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011.