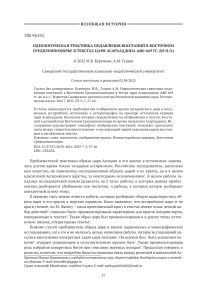Идеологическая трактовка подавления восстаний в Восточном Средиземноморье в тестах царя Асархаддона (680-669гг. до н.э.)
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблематика отображения врагов ассирийского царя в письменных ассирийских источниках в историографии на примере источников периода царя Асархаддона. Внимание авторов сосредоточено на отображении в текстах восстаний в ассирийском Восточном Средиземноморье во время правления Асархаддона. Исследование рассматривает специфику отображения восстаний, позволяет проследить связь между «тяжестью преступления» и последующей мерой наказания царем восставших в исследуемых текстах.
Идеология, отображение врагов, Новоассирийская держава, Восточное Средиземноморье
Короткий адрес: https://sciup.org/148331449
IDR: 148331449 | УДК: 94(352) | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-57-66
Текст научной статьи Идеологическая трактовка подавления восстаний в Восточном Средиземноморье в тестах царя Асархаддона (680-669гг. до н.э.)
Проблематикой трактовки образа царя Ассирии и его врагов в источниках занимались долгое время только западные ассириологи. Российские исследователи, насколько нам известно, не занимались исследованиями образов царей и их врагов, да и в целом идеологией Ассирийского царства, за некоторыми исключениями1. В целом работы западных исследователей можно разделить на 2 типа: работы, в которых данная проблематика разбирается обобщенно или частично, и работы, в которых авторы разбирают конкретный аспект темы.
К первому типу можно отнести работы, которые разбирают общую характеристику образа царя и его врагов в царских надписях. Было выявлено, что ассирийские цари и их враги (точнее, по М. Фалесу – один архетипичный враг) в текстах имеют лишь четкий набор действий2, отдельно были проанализированы характерные для врагов Ассирии черты, передаваемые в текстах3. Также образ царя был проанализирован и в других типах источников: письма, литературные тексты4.
сирии, а именно степень обожествления царской власти9. Ассирийский царь являлся проводником не только богов, а еще и божественного Порядка против Хаоса10.
Таким образом, исследователи подметили специфику описания военных кампаний в Новоассирийский период. Цари Ассирии – защитники божественного Порядка, их алгоритм действий прост: узнали о враге Порядка, подошли к врагу, победили его. Сами цари являются приближенными к богам существами. В царских надписях цари везде категорически идеальны: как воин, жрец и управленец. Враги Ассирии наделены ограниченным кругом аморальных качеств.
Говоря об исследованиях, которые разбирают конкретные узкие аспекты темы, выделим следующие. Например, ассирийские цари часто описывали свои вторжения как потоп, сокрушение, ослепление сиянием («melammu»). Для подобного описания в ассирийских царских надписях использовался глагол «saḫāpu», динамика использования и смысловая нагрузка которого и были исследованы11.
Исследовались также и казни ассирийцев на примере свежевания. Для описания свежевания врага в тексте источников используются те же глаголы, что и для разделки животных - «kâṣu» и «šaḫātu»12. Характерная черта отображения образов царя и врагов – сравнение царя и его врагов с животными, так, помимо прямых сравнений даже метафорически враги царя сравниваются с животными. Помимо дегуманизации врагов исследовалась знаменитая жестокость ассирийцев, которая, видимо, могла быть вызвана не патологической жестокостью, как считалось в ранней историографии, а необходимостью проведения религиозного ритуала (примером послужил рельеф Ашшурбанапала с отрубленной головой Теуммана)13. Анализ образа царя и его врагов также важен для изучения пропаганды Новоассирийского царства. Так, были исследованы 2 однотипные стелы Асархаддона, которые различаются степенью выраженного величия царя и принижения его врагов в зависимости от лояльности территории14.
Итак, современная историография выявила характерные черты отображения царей Ассирии и их врагов. Лишь небольшая часть исследований посвящена отдельным аспектам данной проблематики. Дополним, что практически отсутствуют работы, посвященные только конкретным правителям. Между тем мы полагаем, что ныне источниковый материал достаточен, чтобы проанализировать идеологическую трактовку образов врагов правления именно Асархаддона. Несмотря на то, что враг в царских надписях жестко ограничен отведенной ему ролью и принципиальным отсутствием возможности противостоять на равных установленному богами Порядку и царю Ассирии как хранителю Порядка, сейчас все-таки можно попытаться рассмотреть «индивидуальность» каждого врага ассирийского царя через его описание в источниках при мятежах, через приводимое наказание и его форму, через количество и особенности эпитетов. В историографии, насколько нам известно, еще не предпринималось попытки целенаправленно проанализировать зависимость «наказания» от «преступлений» врагов у конкретных новоассирийских царей.
Теперь перейдем к событиям эпохи Асархаддона, а именно к восстаниям Абди-Милку-ти и Сандуарри.
Итак, Абди-Милкути, царь Сидона, и Сандуарри, царь городов Кунди и Сизу, восстали против Асархаддона, заранее сговорившись15.
Рассмотрим в этом эпизоде религиозный компонент и трактовку воли богов и действий царя. Прежде всего отметим, что правитель Абди-Милкути никаких клятв против богов не нарушал (божество упоминается лишь во фразе «сбросил ярмо Ашшура»16), все действия правителя Сидона направлены только против самого царя Ассирии, в отличие от второго правителя – Сандуарри. Так, Абди-Милкути, как и Сандуарри, «не устрашился владычества» Асархаддона, но сразу после этой фразы идут расхождения: Абди-Милкути «не по- слушал губ» Асархаддона17, а Сандуарри «оставил богов»18. Мы полагаем, что это можно трактовать следующим образом: Сандуарри заключал с Ассирией договор, который подкрепляли клятвы именами богов, что позволило Асархаддону после мятежа обвинить его в нарушении этих клятв и, соответственно, в отречении от богов. Абди-Милкути же буквально ослушался самого ассирийского царя, без нарушения божественных клятв.
Боги начинают играть активную роль в подавлении мятежа, а Асархаддон, согласно источникам, просто выполняет их волю. Так, он прямо пишет, что «выловил» царя Сидона и отрубил ему голову по приказу бога Ашшура19. Других богов, помогающих идти против Абди-Милкути, в источнике не упоминается. Но есть иной вариант: в текстах на двух вазах об этом событии царь все же упоминает, что захватил царя Сидона именно благодаря помощи богов: Ашшура, Сина, Шамаша, Бела, Набу, Иштар Ниневийской и Арбельской20. Ответить на вопрос, почему все эти боги были вписаны на вазу-трофей из Сидона, пока еще однозначно не представляется возможным. При этом официальные ассирийские царские надписи в ниневийском дворце описывают лишь участие бога Ашшура.
Правитель Сандуарри же, как отмечалось выше, согласно ассирийским источникам, именно «оставил богов», в отличие от Асархаддона, подчеркивавшего, что доверился богам, но и тут в разных ассирийских документах есть расхождения, кому именно «доверился» царь:
Ашшуру, Сину, Шамашу, Белу и Набу21.
Только Ашшуру22.
В дальнейшем же ассирийские боги согласно царскому тексту не помогали Асархаддо-ну, он «сам» осадил город, «сам» поймал Сандуарри в горах.
То есть без нарушения Абди-Милкути клятв богам его выступления против ассирийского царя вызывают гнев только Ашшура, и этот бог приказывает просто казнить восставшего. При этом правитель Сандуарри, нарушивший клятвы многим богам, «настроил» против себя целый ряд богов, которым доверился Асархаддон, и боги помогли наказать Сандуарри, но это упомянуто только в одном ассирийском источнике, в другом идет речь лишь об одном боге – Ашшуре.
Рассматривая моральную оценку в источниках ситуации данного мятежа, мы видим, что царь Сидона восстал («сбросил ярмо Ашшура»23), так как не побоялся выступить против Асархаддона (поддерживаемого богами), поскольку не внял словам Асархаддона, а доверился «волнующемуся морю» (что тут имеется в виду: связанные с морем храмы местных морских божеств или некие приморские-заморские союзники, флоты или базы, не совсем ясно)24. Во всяком случае царь Сидона испугался «оружия Асархаддона»25 и «сбежал в море», когда Асархаддон подошел к его городу.
Правитель Сандуарри же доверился не морю, а «неприступным горам»26. При этом Сан-дуарри был удостоен в официальном источнике статусного термина «опасный враг»27, редкое описание противника при Асархаддоне. Согласно источнику оба мятежника восстали, доверившись не только своим силам, но и чему-то или кому-то, кто был готов поддержать их и противостоять не только ассирийской армии, но и, по версии Асархаддона, поддерживающим его богам.
Переходя к военным действиям, отметим, что город Абди-Милкути если и оборонялся, то недолго. Асархаддон же «сравнял с землей Сидон» в 677 году до н.э., разрушил стены и жилища, сбросил все обломки зданий в море, более того, Асархаддон уничтожил, видимо, фундаменты (или сломал дамбы, чтобы город частично затопило): «заставил исчезнуть даже то, на чем все это стояло»28.
Против Сандуарри не описывается конкретных военных кампаний, скорее всего потому, что боевые действия в горах проходили сложно и оснований для восхищения победой было меньше, однако Асархаддон констатирует, что не только «осадил» Сандуарри, но и сумел его поймать в почти неприступных горах29.
Стилистически финикийского правителя Сидона царский текст сравнивает с рыбой, которую вылавливают из моря30. Асархаддон же, говоря о наказании мятежному Сидону, сравнивает себя с наводнением, которое уничтожает все жилища и стены31. А правителя Сандуарри царь сравнивает с птицей32, выловленной в горах. Что и логично – отряд Санду-арри, очевидно, пришлось отлавливать в горах, а финикийцев - в море.
Говоря о наказании двух мятежников, стоит отметить важные различия. Несмотря на то, что оба были обезглавлены: «В Ташриту – голова Абди-Милкути! В Аддару – голова Сан-дуарри!» Я обезглавил (обоих) в один и тот же год: С первым я не стал медлить, со вторым я поторопился. Чтобы показать людям могущество бога Ашшура, моего господина, я вешал головы на шею их знати и шествовал по площадям Ниневии с певцами и лирами»33, с самими поселениями мятежников поступили по-разному. Сидон и его окрестности были поставлены под прямой контроль ассирийцев, и даже была построена резиденция Кар-Асархаддон, а также вывезены люди, драгоценности и скот в Ассирию34. Сандуарри же был лишь казнен сам, на этом наказание подвластных ему земель заканчивается. Никаких дополнительных разграблений городов, увода подчиненных и родственников на киликийских территориях в данной кампании не упомянуто. Исходя из этого можно предположить, либо Абди-Милкути провинился перед Асархаддоном (и богами) гораздо серьезнее: либо же стратегически во владения Сандуарри укрепиться ассирийцам было сложнее и не так важно, как на перекрестке богатых торговых путей и стратегических дорог на месте Сидона. Считаем, что особое значение здесь имело и то, что Абди-Милкути прямо «не послушал» царя, фактически этим оскорбив его и поставив под сомнение его власть.
Отметим еще и тот факт, что в этот момент политически Асархаддон, видимо, играл на противоречиях двух сильнейших городов Восточного Средиземноморья – Тира и Сидона – и скорее всего Асархаддон на данном этапе «взял курс» на ослабление и даже уничтожение Сидона и усиление лояльного ему Тира.
Геополитическое значение Сандуарри, видимо, не было столь значительным несмотря на то, что он был назван в текстах «опасным» врагом, но это, видимо, именно по боевым качествам на поле боя.
Таким образом, по ассирийским источникам можно выявить следующие провинности мятежников. Для Абди-Милкути: «сбросил ярмо Ашшура», не устрашился владычества Асархаддона, не послушал требований Асархаддона. Вызывает сомнения только «доверился бушующему морю». Если речь здесь идет не только о побеге, но и поддержке жречества местных, неассирийских, морских богов, то только тогда ситуацию можно трактовать и в контексте религиозного мятежа. Тем не менее никаких открыто упомянутых источниками религиозных преступлений перед богами мы не находим.
Сандуарри же провинился перед Ассирией тем, что не только не побоялся владычества и восстал против Асархаддона, но еще и «покинул» богов Месопотамии. Оба мятежника бежали от ассирийского царя при его появлении. Несмотря на то, что Сандуарри открыто нарушил клятвы богам Месопотамии, наиболее серьезно ассирийский царь прошелся по территориям Сидона и окрестностей, более того, увезя с собой драгоценности, родственников Абди-Милку-ти и его служащих. Владениям Сандуарри, видимо, повезло быть неразграбленными, во всяком случае ассирийские источники ни о каком разрушении селений в этот раз не упоминают.
Очередной мятеж, упомянутый в источниках, - это мятеж второго крупнейшего финикийского города – Тир, на который прежде опирался Асархаддон и где правителем был царь с тронным именем Баал35. Баал упоминается еще и по текстам, описывающим восстание Сидона. После подавления восстания Абди-Милкути именно царь Тира получил территории, прежде подвластные Сидону, а именно города Мариббу и Сарепта36, то есть он был в этот момент не просто лоялен, а награжден значительными землями и даже поселениями, ранее подвластными мятежному Сидону. Суть мятежа Тира, видимо, состояла в том, что его царь перестал платить ежегодную дань37.
Божественное вмешательство ограничивается лишь тем, что царь Тира «сбросил ярмо бога Ашшура»38, причем в другом тексте говорится, что сброшено ярмо даже не бога, а именно самого царя Асархаддона, дальше лишь после лакуны упоминается бог Ашшур и «великолепие моего (т.е. Асархаддона) владычества»39.
Царь Тира не удостоился никаких оскорблений, сравнений с животными, упоминаний о мятеже против богов, нарушении божественных клятв, нет никаких унизительных аллегорий, в ассирийских текстах подчеркивалось лишь то, что он сбросил ярмо, а также что он «доверился своему другу Тахарке, царю Куша»40. В одном лишь тексте упоминается, что Баал был дерзок по отношению к самому Асархаддону, но о богах не сказано ничего41.
Военные действия отражены лишь в одном источнике, где описывается осада, начатая Асархаддоном: «я отрезал подачу воды и еды, которые поддерживали жизнь в городе»42, но, видимо, царь Ассирии шел дальше в Египет и тратить время на Баала не желал. В другом же тексте, видимо, без описания осады, подчеркивается, что Баал преклонил колени и вымолил пощаду у Асархаддона.
Говоря о наказании Тира в данном случае, отметим, что оно касалось лишь территориальных (а именно материковых) потерь для Тира, все эти территории передавались в прямое управление ассирийского наместника, а дочери Баала с приданым были отправлены в ассирийский гарем, и была наложена «тяжелая дань» на Тир. Видимо, те платежи, которые Баал прекратил, были также возвращены43.
Таким образом, суть мятежа – чисто экономическая (прекращение выплаты дани), но подчеркивается, что Баал доверился иноземным силам, однако нет никаких оскорблений, унижений, грабежа, убийств со стороны ассирийцев – лишь реорганизация территории, увод царских дочерей как политических заложниц и назначенная повышенная дань. При этом сам царь Баал не только выжил, но и сохранил власть над Тиром и оставшимися ему прочими территориями.
Итак, обобщим провинности врагов Асархаддона. Для Абди-Милкути: «сбросил ярмо Ашшура», не устрашился владычества Асархаддона, не послушал требований Асархаддона. Никаких открыто религиозных преступлений перед богами в источниках мы не находим, несмотря на то, что союз его с царем Сандуарри был заключен с клятвой местным богам. Сандуарри же – другое дело. Он провинился перед Ассирией не только тем, что также не побоялся владычества и восстал против Асархаддона, но еще и «покинул» богов Месопотамии. Оба они бежали от ассирийского царя при его появлении.
Несмотря на то, что Сандуарри открыто нарушил клятвы богов Месопотамии, наиболее серьезно ассирийский царь прошелся не по его территориям, а по территориям Сидона и окрестностям, более того, увезя с собой драгоценности, родственников Абди-Милкути и его служащих. Отрубленные головы Сандуарри и Абди-Милкути были провезены в Ниневии на триумфе Асархаддона.
Резко отличается подавление мятежа Баала. Суть мятежа – прекращение выплаты дани. Подчеркивается, что царь Баал доверился иноземным силам, однако по ходу подавления мятежа нет никаких оскорблений мятежника, унижений, грабежа, убийств его подданных со стороны ассирийцев, Тир был лишь подвергнут реорганизации территории, еще были уведены заложницами дочери правителя Тира и была назначена повышенная дань.
Таким образом, можно вывести следующую закономерность: наказание будет жестче, если мятежник ослушается лично Асархаддона, будет игнорировать его требования, про- должая таким образом проявлять непочтение, а также если мятежники «трусливо сбегут от сияния Ашшура».
Сандуарри нарушил клятвы богам, однако участь его территории была более завидной, чем территории, подконтрольной Сидону. Тир же вообще отделался лишь реорганизацией, увеличенной данью и пополнением гарема Асархаддона дочерями царя Баала, при этом клятв религиозных царь Баал не нарушал.
Таким образом, наказание за оскорбление богов при правлении Асархаддоном было, по источникам, менее жестким, нежели оскорбление непосредственно царя. При анализе источников мы можем сделать вывод, что мятежник имеет возможность «смягчить» ситуацию: например Абди-Милкути «не послушал губ» Асархаддона, Баал же вышел к Асар-хаддону до штурма Тира «с повинной». Абди-Милкути и Сандуарри попытались бежать от ассирийского царя, однако, видимо, это только увеличило степень провинности перед Асархаддоном.
Итак, проанализировав ассирийские источники по мятежам в Восточном Средиземноморье, мы можем прийти к выводам, что источники показывают иерархию провинностей мятежников: нарушение прямых приказов Асархаддона карается более жестоко, чем даже нарушение клятв богам. «Явка с повинной», как у правителя Тира, значительно смягчает царское наказание, особенно для подданных и земель явившегося с повинной.