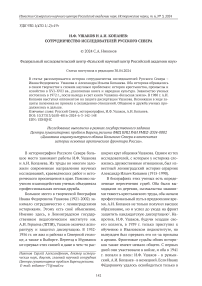И.Ф. Ушаков и А.И. Копанев: сотрудничество исследователей русского Севера
Автор: Никонов С.А.
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 3 т.6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история сотрудничества исследователей Русского Севера - Ивана Федоровича Ушакова и Александра Ильича Копанева. Оба историка обращались в своем творчестве к схожим научным проблемам: история крестьянства, промыслы и хозяйство в XVI-XVII вв., рукописная книга и народная культура. Знакомство ученых состоялось в 1972 г., после выхода в свет книги Ушакова «Кольская земля». В 1980 г. А.И. Копанев выступил оппонентом на защите диссертации Ушакова. Возникшая в ходе защиты полемика не привела к охлаждению отношений. Общение и дружба ученых продолжились и дальше.
Русский север, историография, и.ф. ушаков, а.и. копанев
Короткий адрес: https://sciup.org/148330827
IDR: 148330827 | УДК: 930.1(470.1/.2)«19» | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-142-148
Текст научной статьи И.Ф. Ушаков и А.И. Копанев: сотрудничество исследователей русского Севера
EDN: UDHQHC
Исследование выполнено в рамках государственного задания
Центра гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН FMEZ-2024-0002 «Динамика социокультурного облика Кольского Севера в контекстах истории освоения арктического фронтира России».
В историографии Русского Севера большое место занимают работы И.Ф. Ушакова и А.И. Копанева. Их труды во многом заложили современные направления научных исследований, краеведческих работ и исторического просвещения в крае. Помимо научного взаимодействия ученых объединяла профессиональная личная дружба.
Большое место в творческой биографии Ивана Федоровича Ушакова (1921-2002) занимало сотрудничество с ленинградскими историками. Этому есть своё объяснение. Именно здесь, в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена (ЛГПИ), Ушаков окончил аспирантуру и защитил диссертацию. В 19521956 гг. он жил и работал в Северной столице, а также в Выборге. Переезд в Мурманск не прервал этих связей и даже в чем-то рас-
Никонов Сергей Александрович, доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц региона.
ширил круг общения Ушакова. Одним из тех исследователей, с которым у историка сложились дружественные отношения, был известный ленинградский историк-аграрник Александр Ильич Копанев (1915-1990).
В биографиях этих ученых есть определенные пересечения судеб. Оба были выходцами из деревни, сызмальства знавшими тяжесть крестьянского труда, оба начали профессиональный путь в предвоенное время. А.И. Копанев не только получил высшее образование, но и успел до ухода на фронт защитить кандидатскую диссертацию1. Напротив, И.Ф. Ушаков, будучи младше своего коллеги, в 1939 г. только приступил к обучению в Ивановском пединституте, но вынужден был прервать его из-за призыва в армию. Фронтовые судьбы обоих историков также имеют немало общего. С первых дней они участвовали в войне, и оба в 1941 г. попали в плен: И.Ф. Ушаков - в румынский, А.И. Копанев - в немецкий. Если Ивану Фёдоровичу удалось освободиться только в сентябре 1944 г., то Александр Ильич оставался пленным до мая 1945 г.2
В послевоенный период А.И. Копанев продолжил научную деятельность в Ленинграде, работая в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ЛОИИ) и рукописном отделе Библиотеки Академии наук. Основными направлениями его деятельности становятся источниковедение и археография, история крестьянства Русского Севера. Неоднократно ученый участвовал в археографических экспедициях на Севере СССР, включая и Мурманскую область3. Если для Копанева изучение Русского Севера было последовательным продолжением его научных занятий еще с довоенного времени, то Ушаков первоначально занимался историей горнозаводского Урала конца XVIII - первой половины XIX в. Только с переездом в Мурманск его интересы переключились на прошлое Кольского Севера до 1917 г.
Отношения ученых раскрываются в документах личного происхождения, отложившихся в фонде И.Ф. Ушакова в Государственном архиве Мурманской области (ф. Р-1355). Во-первых, это частично сохранившаяся переписка, представленная письмами А.И. Копанева (с 1972 г. по 1990 г.) и одним письмом И.Ф. Ушакова (1972 г.). Иван Федорович нередко дублировал свои письма, печатая их на пишущей машинке, если считал их важными. Учитывая, что все письма А.И. Копанева были ответными, остается предполагать, что послания Ушакова или хранятся в личном архиве ленинградского историка, или уже утрачены. Во-вторых, особую ценность представляют дневниковые записи Ивана Федоровича за 1978-1980 гг., раскрывающие историю защиты докторской диссертации в Ленинграде. Одним из оппонентов диссертации выступил Александр Ильич.
Заочное знакомство И.Ф. Ушакова и А.И. Копанева произошло по рекомендации И.П. Шаскольского - ленинградского историка-скандинависта и научного редактора «Кольской земли»4. После выхода в свет этой кни- ги в 1972 г. Игорь Павлович рекомендовал направить ее экземпляры коллегам в Ленинград, Москву и Вологду5. В числе указанных ученых был и А.И. Копанев.
Получив подарочный экземпляр «Кольской земли», Александр Ильич откликнулся дружеским письмом И.Ф. Ушакову. Он отмечал далеко не «краеведческий масштаб» исследования. Среди достоинств работы Копанев выделял раскрытие «векового промыслового цикла помора, саама, колянина. Движение в этой области и застой очень многое объясняет в жизни Севера вообще. Интересно описан быт различных групп, как социальных, так и экономических. И, наконец, показан дух северянина – его терпение, отвага, трудолюбие»6. Дружеская поддержка коллеги была крайне важна для И.Ф. Ушакова. Являясь единственным в Мурманске специалистом по досоветской истории, ученый хотел видеть востребованность своего труда не только у «широкого круга читателей»7, но и у специалистов.
Заочное знакомство ученых на этом не прервалось. В период завершения «Кольской земли» И.Ф. Ушаков готовит еще одну, новую книгу об Успенской церкви в селе Варзуга8. Подарочный экземпляр также был выслан А.И. Копаневу. На этот раз подарок был встречен не так радушно. Выражая благодарность автору за лестное именование «исследователем Варзуги», Александр Ильич высказал ряд критических замечаний. Так, И.Ф. Ушакову было поставлено в упрёк заимствование научных данных из статьи историка «Неземледельческая волость в XVI-XVII веках»9 без ссылок на нее. В «Кольской земле», изданной двумя годами ранее, эта статья указана в списке использованной литературы10. Обошел стороной, как показалось Копаневу, историк и результаты археографических экспедиций на Европейский Север СССР11.
В коротком письме Александр Ильич не раскрывает, в чем же заключались эти заимствования. Скорее всего, он имел в виду количественные данные о населении и хозяйстве Варзуги, развитии монастырского землевладения. Вместе с тем, учитывая обращение ученых к одним и тем же опубликованным источникам, не будет большим преувеличением считать, что независимо друг от друга они пришли к аналогичным итоговым подсчетам12.
Отвечая на упреки коллеги, И.Ф. Ушаков обращается к истории подготовки рукописи об Успенской церкви. Она была написана еще в 1966 г., до выхода в свет статьи А.И. Копанева. Машинописная рукопись была передана в Управление культуры Мурманской области, где оставалась до начала 1970х гг. Получившая положительные отзывы от специалистов из Москвы и Владимира, брошюра вышла в свет в 1974 г., к 300-летию Успенской церкви. До ее издания историку удалось переработать только две последние страницы. Накопившийся к этому времени у Ушакова новый материал также не был внесен в книгу13.
С подчеркнутой сдержанностью ученый писал: «Я всегда очень уважительно отношусь к труду предшественников, никогда не замалчиваю их и уж тем более не «заимствую» молчаливо их труды в свои работы. Кстати, текст о Варзуге в книге «Кольская земля», выросшей из спецкурса, который я читал студентам Мурманского пединститута, тоже был написан задолго до опубликования Вашей работы»14. О заслугах А.И. Копанева в изучении Варзуги ученый упоминал на страницах учебного пособия для высшей школы15. Ему были знакомы и результаты археографических экспедиций в Мурманскую область и Карелию.
Возникшее недоразумение на несколько лет прервало отношения ученых. Нельзя исключать, что у Ушакова возникла обида на несправедливые упрёки ленинградского коллеги. Общение историков возобновилось в период подготовки И.Ф. Ушакова к защите докторской диссертации. Идея переработать и защитить «Кольскую землю» как докторскую диссертацию возникла сразу после выхода в свет этой книги. Но до ее воплощения в жизнь прошло несколько лет.
В феврале 1978 г. Иван Федорович отправился в Ленинград, чтобы выяснить, в каком учреждении возможна защита работы. На примете были две организации – ЛГПИ, где он в свое время защищал кандидатскую диссертацию, и ЛОИИ. Для обсуждения этого вопроса 9 февраля Иван Федорович отправился в ЛОИИ для встречи с И.П. Шаскольским. Давнее знакомство с Игорем Павловичем было заочным, и в этот раз Иван Федорович впервые встретился с ним лично. В это время в институте оказался А.И. Копанев, пришедший на заседание сектора истории СССР периода феодализма. Шаскольский представил ученых друг другу.
Первое впечатление оказалось положительным («Письменное и очное знакомство не идентичны»16). Ивану Федоровичу он сразу показался симпатичным : «крупного и могучего телосложения, ласковый и доброжелательный, воевал в свое время, сам из Вологды17, Север исходил собственными ногами»18. В разговоре сразу был снят старый упрек о заимствованиях в работе об Успенской церкви в Варзуге. Присутствовавший при разговоре И.П. Ша-скольский предложил А.И. Копаневу участвовать в оппонировании будущей диссертации. Хотя это предложение несколько смутило Ивана Федоровича, отказа со стороны Александра Ильича не последовало .
Выход на защиту занял еще два года. Неурядицы возникли с подготовкой отзыва ведущей организации, в качестве которой выступил Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена. О происходящем И.Ф. Ушаков сообщал ленинградским коллегам И.П. Шаскольскому и А.И. Копаневу. Последний подбадривал диссертанта, замечая: «все, что тянется, имеет конец, будет конец и Вашего дела»19.
До последнего момента Ушакову оставалась неизвестной дата защиты. Только вечером 8 февраля 1980 г. ученый узнал о решении Ученого совета ЛГПИ провести защиту 13 марта. 11 февраля ему предстояло разослать автореферат диссертации и выехать в Ленинград для подготовки всех до-кументов20.
Спешно вылетев для решения всех вопросов, И.Ф. Ушаков уже 12 февраля встретился в ЛОИИ с И.П. Шаскольским и А.И. Копаневым21. Во время этой встречи отзыв на диссертацию еще не был подготовлен. С ним ученый ознакомился за три дня до защиты, 10 марта, в кабинете ученого секретаря совета22. На следующий день И. Ф. Ушаков звонил А.И. Копаневу, выясняя, сможет ли тот присутствовать на защите, и получил заверение последнего, что «если даже завтра (12 марта – С.Н. ) буду больным, то послезавтра на защите буду»23.
Отзыв А.И. Копанева не был формальным. В нем обстоятельно разобрано содержание диссертации, изложены критические замечания о некоторых концептуальных положениях. Полемику вызывали утверждения мурманского историка о «государственном феодализме» на Кольском Севере, особенностях распоряжения промысловыми угодьями в поморских волостях, взаимоотношениях крестьянского самоуправления и воеводской власти в регионе и некоторые другие. Не касаясь сути возникшей между учеными полемики, отметим, что И.Ф. Ушаков серьезно отнесся к критическим соображениям оппонента. Об этом говорит несколько вариантов ответов на критику, а также сделанные им из отзыва А.И. Копанева выписки24.
После успешной защиты следовало оформление документов в ВАК. Несмотря на эти хлопоты. И.Ф. Ушаков нашел время для работы в архиве ЛОИИ. Сюда к началу рабочего дня 18 марта историк пришел для занятий с таможенной книгой Кольского уезда 1710 г. В какой-то момент в читальный зал архива зашел А.И. Копанев, и между коллегами произошел небольшой разговор: «Я (И. Ф. Ушаков. – С.Н.): Скажите начистоту, без лакировки - как впечатление?». Говорит (А. И. Копанев. – С.Н.): «Очень хорошее, все убедительно, логично и необх[одимо] введ[ение] и историогр[афический] раздел. Я против гос[ударст]в[енного] феодализма, но это понимание я не стал дискутировать…» и т.д.»25. И далее, как замечает Уша- ков, Копанев не добавил ничего, сверх уже сказанного на защите диссертации.
На приглашение А.И. Копанева посетить заседание Археографической комиссии, где был представлен доклад В.И. Старцева об отречении от престола Николая II, И.Ф. Ушаков ответил отказом, сославшись на необходимость продолжить оформление до-кументов26. В этот приезд историки больше не встречались. Утром 20 марта Ушаков вылетел домой, в Мурманск.
Отношения между учеными после защиты продолжались, о чем говорят письма и открытки А.И. Копанева, адресованные И.Ф. Ушакову. Так, ленинградский историк интересовался обстоятельствами прохождения документов по защите диссертации в ВАК27, радовался выходу в свет «Кольской старины» (1986 г.)28 и новым открытиям в этой книге, советовал подготовить статью для «Трудов Отдела древнерусской литературы» о традициях поморского домостроения на зверобойных промыслах Шпицбергена (Груманта)29.
Последняя открытка А.И. Копанева датирована маем 1990 г. Отзываясь на переживания И.Ф. Ушакова о происходящем в стране, Александр Ильич ободрял коллегу: «… уж очень Вы думаете об общих бедах. Думайте о своем здоровье. Профессору не всё возможно!»30. 31 октября 1990 г. Александра Ильича не стало.
Знакомство и сотрудничество И.Ф. Ушакова и А.И. Копанева продолжалось почти тридцать лет. Сближало их, прежде всего, занятие схожими проблемами: крестьянство и крестьянское хозяйство, культура и история рукописной книги Русского Севера. При этом научное направление исследований у них было разным: Иван Федорович выступал как популяризатор научного знания, Александр Ильич оставался верен академическому подходу в публикации источников и изучении истории крестьянства. Но и к Ивану Федоровичу вполне приложима характеристика, которую дал Копаневу еще один историк-аграрник Юрий Георгиевич Алексеев, подводя итог жизненному и твор- ческому пути друга и коллеги: «Для каждого человека есть своя тяга и своя мера. … [С] тремился он – вслед за былинным своим предком Микулой – нести всю тягу, не уходя в сторону, не перекладывая своей меры на ближнего. Воистину, тяжко жил и не стремился к жизни легкой. И достоин памяти долгой и светлой, как за мирское бытие свое, так и за труды по сбережению свечи высокого знания, огня истинной исторической традиции»31.