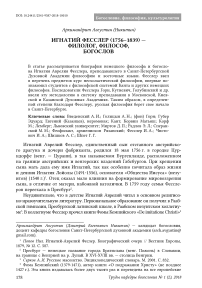Игнатий Фесслер (1756-1839) - филолог, философ, богослов
Автор: Никитин Дмитрий Евгеньевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Богословие, философия, культурология
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается биография немецкого философа и богослова Игнатия Аврелия Фесслера, преподававшего в Санкт-Петербургской Духовной Академии философию и восточные языки. Фесслер ввел в перечень предметов курс несхоластической философии, впервые познакомил студентов с философской системой Канта и других немецких философов. Последователи Фесслера Горн, Кутневич, Голубинский и др. ввели эту методологию в систему преподавания в Московской, Киевской и Казанской Духовных Академиях. Таким образом, в определенной степени благодаря Фесслеру, русская философия берет свое начало в Санкт-Петербурге.
Введенский а. и, голицын а. н, (фон) горн, губер эдуард, евгений (казанцев), иеромонах, кант, корвин матьяш, корф м, лемберг, львовский университет, миртов д. п, радлов э. л, сперан- ский м. м, феофилакт, архиепископ рязанский, фесслер и. а, чисто- вич и. а, шишков а. с, шпет г. г
Короткий адрес: https://sciup.org/140294816
IDR: 140294816 | DOI: 10.24411/2541-9587-2018-10010
Текст научной статьи Игнатий Фесслер (1756-1839) - филолог, философ, богослов
Игнатий Аврелий Фесслер, единственный сын отставного австрийского драгуна и дочери фабриканта, родился 18 мая 1756 г. в городке Цур-ндорфе (венг. — Цурани), в так называемом Бургенланде, расположенном на границе австрийских и венгерских владений Габсбургов. При крещении сына мать дала ему имя Игнатий, так как особенно почитала образ жизни и деяния Игнатия Лойолы (1491-1556), основателя «Общества Иисуса» (иезуитов) (1540 г.)1. Отец оказал мало влияния на формирование мировоззрения сына, в отличие от матери, набожной католички. В 1759 году семья Фесслеров переехала в Пресбург2.
Неудивительно, что в детстве Игнатий Аврелий читал в основном религиозно-нравоучительную литературу. Первоначальное образование он получил в Рааб-ской гимназии, Пресбургской латинской школе, в Раабском иезуитском коллегиу-ме3. В коллегиуме Фесслер прочел книги Фомы Кемпийского «De imitatione Christi»4
Архимандрит Августин (Дмитрий Евгеньевич Никитин) — кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии (arch.avgustin@ gmail.com).
и Роберто Беллармино «De ascensione mentis in Deum per scolas rerum creatorum» (Р. 1606)5.
Уже в те годы для него имели большее значение апостолы и мученики Древней Церкви, а также церковные учители — блаж. Августин (354-430), блаж. Иероним (ок. 347-419/20) и св. Бернард Клервоский (1090-1153), нежели позднее канонизированные монахи, которых он ценил менее и считал принадлежащим к «низшим рядам святости»6.
в ордене капуцинов
В 1773 г. Фесслер поступил послушником в принадлежащий ордену капуцинов Моорской монастырь у Штульвайсенбурга (венг. — Секешфехервар). В эту обитель 17-летний Фесслер приехал со своей матерью на богомолье, и там он ей заявил, что решил остаться здесь навсегда7. 9 июля 1774 г. Фесслер произнес перед алтарем торжественный обет монашеской жизни8 и принял свое новое имя, ставшее на многие годы основным — Иннокентий. Именно в монастыре Фесслер ознакомился с трудами религиозных мыслителей, не разделявших ортодоксальную католическую точку зрения, сперва — с работой К. Флёри,9 а позднее — с сочинениями И. К. Эдельмана10 и М. Тиндала11. Под влиянием этих авторов у Фесслера исчезло его прежнее доверие к Римско-Католической Церкви и институту монашества, что стало для него причиной серьезного духовного кризиса12.
Между тем, после странствований по различным монастырям и обстоятельного изучения классических и философских наук, 29 мая 1779 г. Игнатий Фесслер принял священный сан13.
Переведенный в Медлингский монастырь около Вены, Фесслер столкнулся с существованием монастырских темниц (монастырские тюрьмы были запрещены светскими властями с 1771 г., но на деле продолжали существовать тайно). Фесслер подробно изложил об увиденном в рапорте Иосифу II от 25 февраля 1782 г. Сообщение Фесслера повлекло за собой осенью 1782 г. инспекцию императорской комиссии, обследовавшей по всей стране монастыри и закрывшей обнаруженные в них тюрьмы14. Вскоре Фесслер пишет проект «O преобразовании и улучшении церковного устройства», предусматривавший введение религиозной свободы мысли и свободы отправления культов, а за ним и свой первый политический трактат — «Что такое император?»15.
Благодаря данному императором 1 июля 1783 г. разрешению монахам капуцинского ордена учиться в университетах, Фесслер в том же году поступил в Венский университет, где первым из австрийских капуцинов получил 11 ноября 1784 г. степень доктора теологии. В том же 1784 г. Фесслер по повелению императора уволен из ордена капуцинов и назначен лектором, а затем профессором восточных языков и ветхозаветной герменевтики в Лемберге (Львовском университете). В Лемберге Фесслер написал учебники по еврейскому и восточным языкам («Anthologia hebraica, e sacris Hebraeorum libris depromta», 1787, и «Institutiones linguarum orientalium, hebraeae, chaldaicae, syriacae, аrаbiсaе», 1787)16.
В 1788 г. увидел свет первый крупный художественный опыт Фесслера — драма «Сидней»17, рассказывающая о судьбе английского мыслителя XVII в. Алджернона Сиднея. Это было яркое изображение фанатизма папистов в Англии, что дало врагам Фесслера повод начать против него процесс. Не дождавшись его окончания, Фесслер покинул Лемберг (Львов) 2 февраля 1788 г. и направился во владения прусского короля.
Прусская Силезия
6 февраля 1788 г. Фесслер прибыл в Бреслау (ныне — Вроцлав, Польша), центр Прусской Силезии. Здесь Фесслер нашел приют при дворе наследного принца Генриха Эрдмана фон Шёнайх-Каролат, который дал ему работу — должность воспитателя своего сына. Необременительная, но хорошо оплачиваемая должность, устроенный быт, свободный доступ к большой и хорошо подобранной библиотеке принца и масса свободного времени давали Игнатию Аврелию возможность заняться литературными опытами.
В период пребывания в Пруссии Фесслер работал на литераторской ниве очень плодотворно: за это время было напечатано 32 его произведения, из которых наибольшую популярность и признание снискали роман-диалог «Марк Аврелий» (1790-1792).
В 1791 г. Фесслер перешел в лютеранство, что, впрочем, носило формальный характер — фактически он уже давно отдалился от Римско-Католической Церкви18. Как пишет один из его биографов, «он алкал правды и увидел в Лютеранской Церкви большую, в то время, ширь и гуманность сравнительно с католической»19. Перейдя из католичества в лютеранство, Фесслер продолжал литературную деятельность. Так, он написал исторический роман «Аристид и Фемистокл» (1792), ряд монографий по истории Венгрии («Матьяш Корвин, король венгров и великий герцог силезский» (1793-1794), «Аттила, король гуннов» (1794), «Картины из древне-венгерской жизни», 3 части, 1800)20. Еще 13 произведений остались в рукописи. Эти сочинения сделали Фесслера известным и узнаваемым не только в узком кругу специалистов, но и у широкой публики.
К силезскому периоду (1788-1796 гг.) относится начало увлечения Фесслера философией Канта, которая уже вскоре станет доминирующим элементом в его мировоззрении. По собственному признанию Фесслера, его привлекало сочетание у Канта рационально-критического подхода к философским вопросам с весьма ригористскими взглядами на мораль. Воспитателю при дворе наследного принца также импонировали стремление кёнигсбергского философа вывести универсальные нравственные нормы, опираясь на «категорический императив морали», его взгляд на человека как самоценный объект, обладающий свободой воли и несущий полную ответственность за свои поступки21.
В 1796 г. Фесслер переселился в Берлин, где был соиздателем двух повременных изданий: «Aichiv der Zeit» и «Еunemiа»22. Так как литературный труд не обеспечивал Фесслера, он в 1798-1807 гг. занимал пост правового консультанта по духовным и учебным делам при прусском правительстве. В 1803 г. Фесслер покинул Берлин и поселился в своем новоприобретенном бранденбургском имении Кляйнваль (Kleinwall), где снова обратился к писательской деятельности и вел здесь уединенную жизнь кабинетного труженика, пока война 1806 г. не лишила его всего состояния23.
С.-Петербург. Духовная академия
«Ряд жизненных перипетий привел Фесслера к горькому положению и нищете, когда ему было уже 53 года, — пишет П. А. Висковатов. — На этот раз из безвыходного положения он был вырван неожиданным предложением от русского правительства занять во вновь открываемой Духовной Академии при Александро-Невской Лавре в Петербурге место профессора восточных языков и философии»24.
Приглашение приехать в Россию Фесслеру было сделано по рекомендации его ученика по Лембергскому университету Петра Лодия25, в то время занимавшему видный пост в С.-Петербурге. Приглашение прибыть в С.-Петербург было послано Фесслеру в феврале 1809 г.; он приехал сюда в январе 1810 г. П. Д. Лодий и встречал немецкого профессора в С.-Петербурге вместе с другим воспитанником Фесслера — будущим учителем Гоголя Иваном Орляем. «Сперанскому представил меня Лоди, — вспоминал Фесслер. — Необыкновенно ласковый прием, благородные черты лица, обличавшие и высокий разум, и глубокое чувство; одушевленная беседа на латинском языке, которым он владел в совершенстве, — все это тотчас внушило мне неограниченное к нему доверие, в котором я и не имел никогда случая раскаиваться»26.
Вот как российский поэт Эдуард Губер (1814-1847) характеризует Фесслера под именем Сильвио в своей автобиографической поэме «Антоний»:
В то время старец знаменитый, Суровым жребием гоним, В чужой стране ища защиты, И слаб и хил приехал к ним27.
Еще до приезда Фесслера в Россию бакалавром философских наук и инспектором Санкт-Петербургской Духовной Академии был назначен иеромонах Евгений (Казанцев), префект и учитель философии в Спасо-Вифанской семинарии28. Однако не прошло и года, как комиссия духовных училищ постановила (12 января 1810 г.) заменить иером. Евгения «в последство времени другим способнейшим». Мотивом к такому постановлению служила «малоуспешность студентов по философии, обнаруженная ими, вопреки ожиданиям комиссии, на экзамене, который в то время производился в конце гражданского года, т. е. в декабре»29. И, как отмечал проф. СПбДА Д. П. Миртов (1867-1941), «когда Сперанский, беседуя с Фесслером, «открыл в нем отличные сведения в философских науках», то, в виду решения комиссии приискивать кого-либо другого на место иepомонаха Евгения, предложил ей предоставить и кафедру философии Фесслеру. Комиссия согласилась (19 января 1810 г.), без дальнейшего увеличения, однако, жалованья, обнадежив только Фесслера, что труды его не останутся без внимания»30. Что касается иеромонаха Евгения, то он, «впредь до определения на другую должность, оставлен был при Фесслере в качeстве бакалавра, — продолжает Д. П. Миртов. — В настоящем случае новая Академия приобрела действительно большую ученую силу: Фесслер был широко и глубоко образованный человек своего времени, знаток философии и древних языков (восточных и классических)»31.
В столице России Фесслер преподавал философию и восточные языки в Санкт-Петербургской Духовной Академии, где одним из первых в России с университетской кафедры познакомил студентов с философией Канта32. «Фесслер горячо принялся за исполнение принятых на себя обязанностей, — пишет П. А. Висковатов. — Он должен был читать по-латыни. Слушатели его плохо понимали. Если, вспоминал он, студенты и понимали по-латыни, то говорить на этом языке не могли. Объясняться с ними было ему, не знавшему русского языка, нелегко. Весь день проводил он в стенах Академии в отведенном ему для занятий помещении, обучая молодежь, пополняя пробелы их знания, подготовляя их к уразумению лекций своих»33.
Философские взгляды Фесслера кратко были изложены историографом Санкт-Петербургской Духовной Академии И. А. Чистовичем (1828-1893) на основании собственных конспектов немецкого ученого и сообщений о своем преподавании34. Фесслер определял философию как «очевидное знание разума и деятельную жизнь духа», религию — как «свет сей жизни и живописное начало», совершенство духа — «во внутреннем гармоническом согласии между разумом, рассудком, воображением и внутренним чувством», совершенство философии — «в ее полном единении и сообразности с единой, всеобщей, вечной, божественной религией, которая открыта миру в Иисусе Христе». Формально это согласовалось с заданием философской кафедры в Духовной Академии, и Фесслер призван был соответственно настроить будущих наставников православной паствы35.
«Фесслер резко отличает разум (ratio) и идею (idea) от рассудка (intellectus) и понятия (соncерtus), — пишет Г. Г. Шпет. — Paзум есть способность идей; созерцая себя, разум созерцает врожденную ему идею Бога, бесконечного и необходимого Всецелого; из этой первоначальной идеи разум порождает свои общие идеи и отражает их в рассудок. Рассудок постигает в сознании, объем-лет и преображает в понятия как это отражение идей разума, так и представления чувственности; неопределенные идеи разума рассудок ограничивает, определяет и оформливает, а разнообразие и множественность представлений чувственности он слагает в единство; о том и о другом он судит. Врожденной идее о Боге Бесконечном и Всецелом Фесслер приписывает объективную реальность и истину, а понятиям рассудка — лишь условную реальность и условную истину. Соответственно, созерцающий разум может обладать независимым знанием идей, а рассудок — только условным и символическим. Вопросы, которые Фесслер задает философии — обычные вопросы формальной онтологии о бытии, существовании, сущности, модусах, цели и пр.»36.
Однако Комиссия духовных училищ нашла изъяснение философии в конспекте Фесслера темным и постановила (23 апр. 1810 г.) истребовать от него другой конспект, где бы он «изложил философию яснее и по методе и терминологии вольфианской», но два члена комиссии — архиепископ Фео-филакт и М. М. Сперанский — остались при особых мнениях. Мнение архиеп. Феофилакта было роковым для профессорства Фесслера. Архиепископ начинает заявлением, что для него философские начала в конспекте Фесслера не темны, но довольно понятны, и признать их следует началами «вредными для Церкви и отечества и пагубными для студентов»37.
По словам Д. П. Миртова, «в критических замечаниях на систему Фесслера Феофилакт пытается доказать еще большее, именно, что „разрушительные, а не созидательные” начала фесслеровой философии не только „подрывают религию”, но что всего удивительнее, „совершенно ниспровергают самую философию”. Свидетельствуя о некоторой осведомленности архиепископа в философии, критика эта характерна по своей тенденциозности и той смелости, для которой не страшна опасность рискованных утверждений»38.
Архиепископ Феофилакт сформулировал свои обвинения в 5 тезисах: «1) Фесслер превращает натуральный ход познаний человеческих, производя начало оных от разума, независимо от чувств; 2) допускает ложные и несовместные с здравым смыслом начала познания человеческих, приписывая им только условную и подлежательную вещественность и истину; 3) подрывает религию, приняв в основание философии своей пагубные мнения иллюминатов; 4) вводит платонову философию, которая в первые три века христианства столько породила ересей, сколько вольнодумцев во Франции произвела лок-кова метафизика, старанием Вольтера допущенная в училища и через происки его восторжествовавшая над философией Декарта; 5) кроме платоновской философии, [Фесслер] более 25 лет руководствуется учением Плотина, которое в особенном было покровительстве у языческих императоров, потому что совращенные этим учением никогда не могли уже быть христианами»39.
Вот как оценивал тезисы архиепископа Феофилакта отечественный философ Г. Г. Шпет (1879-1937): «Замечания Феофилакта на конспект Фесслера — яркий показатель того философского невегласия, в котором пребывало даже высшее русское духовенство. Во-первых, он упрекает Фесслера в рационализме, решительно апеллируя к опыту и сенсуализму, авторитетами которого он почитает не только Аристотеля и Бэкона, но также Декарта; учение о врожденности идей для него — произвол и ложь. И в то же время, во-вторых, он ставит на вид Фесслеру его идеализм — цель философии, по его мнению, «предметная вещественность [реальность] и истина». Фесслер же, по его характеристике, «приписывает началам человеческих познаний только условную и подлежательную субъективную вещественность и истину». Как это ни забавно, но наши материалистические нигилисты позднейшего времени могли бы считать архиеп. Феофилакта своим предтечей. И только в 3-м пункте он становится на единственно подобающую ему позицию: Фесслер, по его замечанию, не удовлетворяет требованию проекта устава духовных академий, согласно которому преподавание философии должно быть «в постоянном подчинении высшему авторитету»40.
В защиту Фесслера выступил М. М. Сперанский; в своем особом мнении он отмечает, что конспект Фесслера совершенно соответствует смыслу статей академического устава, касающихся философских наук, статьи же эти «всеми членами комиссии в свое время были выслушаны, единогласно утверждены и подписаны». На упрек, что Фесслер не руководится указанными комиссией учебниками, Сперанский отвечает, что цель нового (т. е. академического) образования не в том, чтобы только переменить имена (семинаристов на студентов, учителей на профессоров), а все прочее оставить по-прежнему, например, в философии «все ограничить Баумейстером и Винклером, коих имена и сочинения, знаменитые в наших семинариях, никогда в ученом свете не были приметны»41.
Наконец, критические выступления архиеп. Феофилакта по части гносеологии находят у Сперанского такую отповедь: «цель философского образования в точном разуме устава Академии не в том состоит, чтобы продолжать мрачную систему материализма, на коей вся чувственная философия основана, но, чтобы отвергнув все сии суесловные блуждания разума, призвать его и приготовить к христианской философии, к той философии, которая, по слову св. Павла, не по стихиям мира, но по началам вечной истины, которая есть едина и коей источников тщетно будем мы искать в ушах, в руках и в прочих чувствах»42.
Однако мнение архиеп. Феофилакта взяло перевес, Фесслер был обвинен в «идеализме и пантеизме» и 21 июля 1810 г. был вынужден оставить кафедру43. Вот что пишет сам Фесслер по этому поводу: «Вскоре я увидел, что имею сильного врага в лице архиепископа (Калужского) Феофилакта. Неприязненный ко всем вообще иностранцам, он еще прежде, в комиссии духовных училищ, сопротивлялся вызову моему из-за границы и наконец покорился только сильным настояниям князя Александра Николаевича Голицына и Сперанского. Ему не удалось также помешать им и в поручении мне, через несколько дней моего приезда, сверх еврейского языка, кафедры философии <…> Он потребовал конспект моих академических курсов и представил его в комиссию со своими замечаниями. Сперанский предлагал сообщить последние мне, для объяснения. Но Феофилакт счел ниже своего достоинства вступать в полемику с немецким профессором и прямо требовал моего удаления. Тогда Сперанский взялся сам защищать мое учение, для чего поручил мне подкрепить все статьи моего конспекта приличными местами из творений святых отцов. И это, однако же, не пособило, так что в мае 1810 г. мне стали внушать, под рукою, проситься прочь из Академии, чтобы предварить увольнение оттуда без просьбы. Сперанский, по сообщению моему о том, тотчас защитил меня от таких самовластных действий, советуя между тем потерпеть, пока он приищет средство вывести меня с честью из этих дрязгов»44.
Подтверждение этого рассказа барон М. Корф слышал впоследствии от двух духовных сановников, в то время студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии. «От Фесслера, — говорили они, — студенты были в восхищении, особенно тогда, когда вместо устарелых систем и сухих схоластических формул, которыми дотоле их мучили, новый преподаватель стал посвящать своих слушателей в таинства современной немецкой философии; но Феофилакту, по дошедшим до него из Германии вестям о прежней жизни и прежних верованиях Фесслера, учение последнего показалось подозрительным. Кончилось тем, что новый профессор был вытеснен из Академии. Это рассорило Феофилакта не только со Сперанским, прежним его соучеником и другом, но и с князем Голицыным»45.
Впоследствии и сам Фесслер, и его немецкие биографы приписывали неудовольствие духовного начальства на систему, введенную Фесслером в преподавание философии, влиянию бакалавра словесных наук иеромонаха Леонида (Зарецкого) на тогдашнего ректора Академии архимандрита Сергия (Крылова-Платонова). О. Леонид преподавал эстетику под руководством преосвящ. Феофилакта; он был близок к архиеп. Феофилакту, который оказывал ему постоянное покровительство.
В «Воспоминаниях» митрополита Филарета (Дроздова) есть такие строки: «К партии Феофилактовой принадлежал товарищ мой Леонид, бывший бакалавром в Академии по классу словесности46. Это тот самый Леонид, которого Фесслер называет своим врагом. Причина неудовольствия между ними была вот какая: Леонид был на классе словесности; читал он Бутервека47, которого перевод достал, кажется, из университета. Но встречающиеся там понятия из кантовой философии для него оказались непостижимы. Студенты были недовольны, когда им не объясняли непонятных выражений.
Он старался объяснить, но неудовлетворительно; ходил к своему покровителю Феофилакту. Тот спрашивал: как он объяснял? и, получив ответ, говорил: и мне так кажется. Но студенты все-таки этим не удовлетворялись. Когда прибыл Фесслер, студенты через него познакомились с новой терминологией философской; им стали понятны и лекции Бутервека, и они чаще стали ходить к Фесслеру. Вот причина зависти со стороны Леонида. Он позавидовал и мне»48.
Тогдашнюю атмосферу, царившую в Академии, описывает А. И. Введенский (1856-1925): «Профессор, назначаемый и сменяемый независимо от преподавательского совета, никогда не чувствовал себя огражденным от произвола не только своего прямого начальства, но даже и своих равных сослуживцев, принявших монашество. А когда последнее принимали из-за служебных расчетов, то оно, конечно, не ограждало от тщеславия, раздутого самолюбия, зависти и т. п., а, напротив, еще усиливало их. Поэтому талантливые профессора иногда подвергались преследованиям именно за свой талант, за умение приобрести влияние на студентов. Так было с Фесслером, первым насадителем нашей духовной философии. Доходило до того, что один профессор философии боялся хорошо читать (хотя на деле доказал свое умение) и умышленно читал прямо по книге, без всяких пояснений к ней, монотонным голосом, делая перерывы даже на средине слова, а не только фразы»49.
Сходное мнение выражает Г. Г. Шпет 1879-1937): «Профессора, и в особенности профессора философии, подвергались самой глупой цензуре, и их жалкое преподавание должно было протекать в атмосфере доносов, преследований и нелепых указаний на истинное направление, которого они должны держаться. Среди немцев, приглашенных для преподавания философии, были профессора, склонные к кантианству, но что и как они могли излагать, когда у руководителей просвещением страны влияние имели такие суждения, как, например, суждение архиепископа Феофилакта (способствовавшего удалению Фесслера), который утверждал, что философия Канта заключает в себе двоякую цель: «ниспровержение христианства и замещение оного не деизмом, а совершенным безбожием». Кого могло утешить или чему могло помочь, что этот обличитель обличался другим (митр. Филаретом) в «пантеизме и натурализме»?»50.
22 июня 1810 г. Фесслер был назначен членом комиссии по составлению законов по части уголовного права; комиссию возглавил М. М. Сперанский. «Еще до того, я поднес Сперанскому несколько юридических мнений, написанных мною в Берлине, по тогдашнему моему званию консулента, — вспоминал Фесслер. — Он почтил эти бумаги своим вниманием, и они дали ему повод представить о помещении меня в состоявшую под его начальством комиссию составления законов. Когда же государь соизволил на определение меня в нее со званием корреспондента по части уголовного права, то новый мой начальник сам уже велел мне бросить Академию, из которой я, по моей просьбе, и был уволен 21 июля (1810 г.)»51.
Что же касается самого М. М. Сперанского, то он, бывший до тех пор самым деятельным членом комиссии духовных училищ, вовсе перестал приходить на заседания, и даже просил его уволить52. В отчете, представленном 11 февраля 1811 года, М. М. Сперанский изъявил желание сложить с себя звание члена комиссии духовных училищ. «Комиссия, — писал он, — занимается теперь приложением общих правил к подробностям. Журналы её составляют целые стопы бумаг, к коим, без пользы и с потерей времени, я должен только прикладывать руку. Новые учреждения по училищной духовной части должны входить или в совет, или в комитет (министров) и, следовательно, если бы некоторое участие мое в делах сего рода и могло быть полезно, то оно всегда может быть употреблено в своем месте. Вообще часть сия требует терпения и не может идти с успехом в настоящем образе её управления»53. Но увольнения М. М. Сперанского не последовало. Он оставался членом комиссии духовных училищ до тех пор, пока не велено было совсем исключить его из «гражданского списка».
Как отмечал Э. Л. Радлов (1854-1928), «Голицын стал изгонять из университетов шеллингианцев; так, например, был изгнан из России профессор Харьковского университета Шад, устранен от преподавания Фесслер, и взято под подозрение преподавание естественного права. Три попечителя: Корнеев, Магницкий54 и Рунич, произвели разгром трех университетов, Харьковского, Казанского и Петербургского; из подвергшихся опале профессоров отметим Солнцева в Казани, шеллингианца Галича в Петербурге, ректора Осиповского, противника Канта, и Шада в Харькове. Шишкову принадлежит знаменитая фраза относительно преподавания философии: «Польза сомнительна, а вред возможен»55.
Поволжье
B 1811 г., в период свертывания реформ, Фесслеру пришлось переехать в Вольск Саратовской губернии, где он получил должность надзирателя в Злобинском приюте. С 1813 г. он жил в Саратове, а с 1815 г. в Сарепте. В те годы в немецких общинах остро ощущалась нехватка духовной литературы. В Сарепте открылась типография под руководством Фесслера и Губера; была составлена Книга церковных песен для поволжских общин. Первое издание сборника церковных песнопения вышло в 1815 г. (второе в 1840 г.)56.
В Поволжье Фесслер создает большую часть своего главного исторического труда — «Истории венгров», которая, по крайней мере, до 1960-х годов оставалась самым подробным сочинением по венгерской истории на немецком языке57. Еще будучи в С.-Петербурге, Фесслер сблизился с Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Тургеневыми58, внимательно наблюдавшими за его литературной деятельностью в области истории.
Письмо Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу в Петербург от 9 сентября 1815 г.: «Желал бы я взглянуть на Венгерскую историю Фесслера, удивляясь, как он мог писать её в Саратовской губернии?»59.
Вскоре А. И. Тургенев переслал этот труд по назначению, о чем он сообщал в своем письме от 20 октября 1815 г.: «История Венгрии была издана в Лейпциге в 8 и 10 томах; я доставил её Карамзину, который в следующем письме произнес суд над ней»60.
Знаменитый русский историк с некоторой ревностью отнесся к фундаментальному труду немецкого коллеги, что следует из его письма А. И. Тургеневу: «Сердечно благодарю Вас, Александр Иванович за фесслерову Историю, которую еще читаю и возвращу Вам из Москвы <…> Фесслер пишет складно, умно, но только выписывает из других, без разбора, без критики, не имеет источников перед глазами; внес свой мистицизм в Историю и неприятно подражает Иоганну Миллеру в описаниях. Это компиляция, а не творение; нет единства, характера, души»61.
Со временем в С.-Петербурге стали смягчаться ограничительные меры в отношении Фесслера. Так, еще в 1815 г. он был лишен профессорского содержания, возвращено оно было в 1817 году62.
Н. И. Тургенев63, письмо Сергею Тургеневу, С.-Петербург, 2 сентября 1817 г.: «Ты, я думаю, уже знаешь, что Фесслеру повелено вновь производить жалование из комиссии составления законов (2500 р.), и сие со дня прекращения оного»64.
В 1819 году была учреждена Саратовская евангелическая консистория65 (хотя реально она была образована в 1823 году). А 20 октября 1819 г. Фесслер был императорским указом назначен её суперинтендентом и духовным президентом. Епархия Фесслера включала в себя протестантские приходы Саратовской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Симбирской, Казанской, Оренбургской и Пермской губерний и являлась крупнейшим лютеранским диоцезом в мире. В немецкой историографии имя Фесслера часто появляется в работах, посвященных истории немцев Поволжья66.
На своем посту Фесслер большое внимание уделял инспекционным поездкам по волжским степям и реформированию различных сторон жизни немецких колонистов. В своей деятельности он порой прибегал к авторитарным методам, вызывавшим протесты со стороны протестантских общин. Так, он настаивал на восстановлении института публичного покаяния, отмененного еще при Лютере, что многие протестанты восприняли как попытку возврата к католицизму67. С другой стороны, Фесслер выступал за принудительное объединение лютеранских и кальвинистских приходов, таким образом проводя в жизнь политику прусского короля Вильгельма III.
Вместе с тем Фесслер понимал, что его планы по преобразованию жизни колонистов неосуществимы без поддержки местных церковных общин, и был готов в случае необходимости идти им навстречу. Особое внимание Фесслер уделил улучшению положения приходских священников, уже в 1820 г. добившись увеличения числа приходов и повышения казенного жалования для пасторов с 350 до 600 рублей68.
В 1820 году председатель Саратовской евангелическо-лютеранской консистории суперинтендент Фесслер вновь поднял вопрос о необходимости решительных мер к улучшению сельской школы в колониях вообще. Он требовал расширения учительских прав, училищных помещений, и учреждения особой учительской семинарии, «дабы можно было иметь способных учителей для школ». По его расчету, на устройство семинарии требовалось установления особого общественного сбора с колонистов — «по 54 копейки с души». Но Министерство внутренних дел, ведавшее в то время колониями, отозвалось на предположение Фесслера, что «сбор с колонистов денег на семинарию, при отбывании ими других общественных повинностей, будет для них обременителен; что в учреждении семинарии особенной надобности не предвидится; что лучше бы поискать двух или трех хороших учителей и, назначив им с согласия колонистов достаточное жалование, употребить их для сформирования нужного числа сельских учителей, что учение для колонистов должно быть ограничено преподаванием догматов веры, чтением, письмом и простой арифметикой; желающие же из богатых колонистов, по уважению дарований детей своих, расширить круг их познаний, могут отдавать оных учиться в народные училища, гимназии и университеты»69.
А адмирал А. С. Шишков70 так отозвался в комитете министров 24 мая 1824 г. о деятельности Фесслера в Саратове: «Обширные поручения иностранным проповедникам и учителям, изгнанным из их отечества, или, по крайней мере, признаваемым за людей худых правил, и, может быть, нарочно посылаемым к нам для разрушения мира и тишины, необходимо долженствовали, как и слышно, произвесть немалые плоды посеянием в простом народе всяких ересей и буйства»71.
В том же 1824 году были опубликованы мемуары Фесслера72. Будучи в опале, Фесслер сохранял добрые воспоминания о тех литераторах, которые морально поддерживали его на протяжении ряда лет. А. И. Тургенев К. С. Сербиновичу73, Дрезден, 26 декабря 1826 г. (7 января 1827 г.): «Прошу уведомить Фесслера, что я здесь прочел и последнюю его книгу: Завет его потомству. Много умного и глубокого <…> Благодарю Фесслера и за слова обо мне, в биографии его сказанные, в них видно более дружбы ко мне, нежели справедливости»74.
С.-Петербург. кончина
Саратовская евангелическая консистория просуществовала несколько лет, и в 1834 году была преобразована в Московскую консисторию75, а Фесслер был освобожден от обязанностей епископа и суперинтенданта консистории. Фесслер доживал свой век в С.-Петербурге в чине церковного советника лютеранской общины. Он скончался в один год со М. М. Сперанским — 3(15) декабря 1839 г. — и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище. Могила Фесслера не сохранилась; в современном перечне захоронений его имя не значится76.
Заключение
Подводя итог сказанному, можно привести слова А. И. Введенского по поводу вклада Игнатия Фесслера в отечественную философию.
«Первым сеятелем несхоластической философии в С.-Петербургской Духовной Академии был Фесслер <…> Фесслер преподавал только один год первому курсу. Hо первый курс был в значительной части составлен из преподавателей семинарий; и Фесслер уже в один год успел в нем пробудить любовь к философии. А заменен он был человеком знающим и уже опытным в университетском преподавании, профессором богословия в Дерптском университете (фон) Горном77, который продержался в Петербургской Академии четыре года и сумел поддержать в ней философское движение, начатое Фесслером. Ученик же Фесслера, Кутневич, перенес философию в Московскую Духовную Академию, в которой он был первым профессором этого предмета. И известный Голубинский78, вероятно, был еще его учеником. Ученик же Горна Скворцов, магистр второго, т. е. ближайшего к Фесслеру, выпуска Петербургской Академии, перенес философию в Киевскую Академию и насадил там философскую школу, из которой вышли Новицкий79 (в Киевский университет), Гогоцкий80 (туда же), Михневич (в Одесский Ришельевский лицей), Авсенев (которому студенты Киевской Академии после Скворцова больше всех были обязаны своим философским развитием). Казанская Академия получила своих первых профессоров философии из Москвы — учеников Голубинского. Таким образом, русская духовная философия пошла из Петербурга, подобно тому, как и философия Шеллинга впервые стала распространяться тоже из Петербурга»81.
Archimandrite Augustine (Nikitin). Ignatius Fessler (1756-1839) — Philologist, Philosopher, Theologian.
Archimandrite Augustine (Dmitriy Yevgeniyevich Nikitin) — Candidate of Theology, Associate Professor at St. Petersburg Theological Academy (arch.avgustin@gmail. com).
Список литературы Игнатий Фесслер (1756-1839) - филолог, философ, богослов
- ВведенскийА.И. Судьбы философии в России // Русская философия. Очерки истории. А. И. Введенский., А. Ф. Лосев., Э. Л. Радлов., Г. Г. Шлет. Свердловск, 1991.
- Висковатов П.А. Эдуард Губер и Фесслер. СПб. 1897.
- Горбачев Д.В. И. А. Фесслер в Поволжье: о чем «забыл» автор мемуаров // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Серия: История. Международные отношения. Вып. 2.
- Горбачев Д. В. И. А. Фесслер — немецкий мыслитель и общественный деятель // Новая и новейшая история, 2012, № 3.
- Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М. 1997.
- Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993.
- Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу в Петербург // Москвитянин, 1855. Т. 1.
- Клаус А. Духовенство и школы в наших немецких колониях // Вестник Европы, 1869, май.
- Корф М., барон. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1861.
- Лиценбергер О.А. Евангелическо-Лютеранская Церковь в российской истории (XVI-XX вв.). М., 2003.
- Малый Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз-Ефрон. Т. 2. Вып. 3. Изд. 2-е. СПб., 1907.
- Миртов Д.П. Первые профессоры философии в нашей Академии // Церковный вестник, 1908, №50-51.
- Миртов Д.П. Первые профессоры философии в нашей Академии // Церковный вестник, 1908, № 52.
- Попов Нил. Игнатий-Аврелий Феслер. Биографический очерк // Вестник Европы, 1879, № 12.
- ПыпинА.Н.Общественное движение в России при Александре1.Изд. 2. СПб., 1885.
- Радлов Э. Л. Очерки истории русской философии // Русская философия. Очерки истории. А. И. Введенский., А. Ф. Лосев., Э. Л. Радлов., Г. Г. Шпет. Свердловск, 1991.
- Русский биографический словарь. Фабер — Цявловский. СПб., 1901.
- Серков А. И. Русское масонство. Энциклопедический словарь. М., 2001.
- Тургенев А. И. Александр Иванович Тургенев в его письмах // Русская старина, 1881, т. 31.
- Тургенев Н. И. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М., 1936.
- Феофилакт, архиепископ Рязанский. Замечания члена комиссии духовных училищ, преосвященного Феофилакта, архиепископа Рязанского, на конспект философских наук, представленный г. Фесслером // Чтения Московского общества истории и древностей российских, 1859, кн. II, смесь.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1988.
- Чистович Иларион. История С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1857.
- Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Русская философия. Очерки истории. А. И. Введенский., А. Ф. Лосев., Э. Л. Радлов., Г. Г. Шпет. Свердловск, 1991.
- Beratz G. Die deutschen Kolonien an der unteren Wolga in ihrer Entstehung und ersten Entwicklung. 1764 — 1914. Saratov, 1915.
- Bonwetsch G. Geschichte der deutschen Kolonien an der Volga. Stuttgart, 1919.
- [Fessler I.A.] Was ist der Keiser? Bd. 1-4. Wien, 1782.
- [Fessler I.A.] Sydney. Ein Trauerspiel in funf Aufzugen. (Breslau), 1788 [1789].
- Fesslerl.A. Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen, Bd. 1-10. Leipzig, 1815-1825.
- Fesslerl.A. Ruckblicke auf seine siebzigjharige Pilgerschaft. Breslau, 1824.
- SchmalP. Beitrage zur Geschichte der Wolksbildung in der Wolgakolonien. — Wolgadeutsches Schulblatt, 1929, № 7/8.
- Schmidt D. Studien uber die Geschichte der Volgadeutschen. Pokrovsk-Moskau-Kharkov, 1930.